Марк Навумавіч Мінскі - нар. у 1979 г. у губэрнскім месьце Томск
Расійскай імпэрыі, у габрэйскай мяшчанскай сям’і. Мяркуючы па прозьвішчы,
томскія Мінскія паходзілі з Миньска-Мазавецкага, або з Мінска-Літоўскага, якія
знаходзіліся у межах габрэйскай аселасьці.
Студэнт Томскага Тэхналягічнага Інстытуту, Марк Мінскі, які далучыўся да
сацыял-дэмакратаў, неўзабаве быў сасланы на 4 гады адміністрацыйным парадкам у
Якуцкую вобласьць, па дарозе куды, на павузку (рачное несамаходнае судна на
рацэ Лена) ў паселішча Нахтуйск Алекмінскай акругі Якуцкай вобласьці застрэліў
канвойнага афіцэра Сікорскага, які нібы быў алькаголікам ды прымушаў да
распусты ссыльную Рэбеку Вайнэрман.
Дакладна не вядома, ці быў ужо такім п’янтосам ды распусьнікам Сікорскі?
Ці ж яго вырашылі забіць “палітыкі” за нейкія іншыя “правіны”? Рэбэка Вайнэрман
хутчэй за ўсё была прынадай, а Марка Мінскі зьяўляўся рэвалюцыйным садыстам псыхапатам.
Сьведак жа навучылі, што трэба і як трэба казаць сьледзтву.
Якуцкая вобласьць запаўнялася ў той час бязьмернай колькасьцю, як
крымінальнымі, так і палітычнымі выгнанцамі, якая ўяўлялі арганізаваную масу ў
такой колькасьці, што якуцкая адміністрацыя перастала з ёй спраўляцца.
Пасьля 1917 г. былыя сасланыя, якія атрымалі доступ да друкаваньня сваіх
шматлікіх мэмуараў, ўсяляк перабольшвалі сваю значнасьць ды свой адмысловы
розум, паведамляючы расійскаму “сацыялістычнаму” грамадзтву, як ад аднаго
толькі іхняга выгляду трэслася паўсюдна ў страху “царская” адміністрацыя.
Дарэчы ў забойстве Сікорскага прасочваецца і ўзбэцка-індзейскі сьлед.
Нейкая ссыльная рэвалюцыянэрка Станіслава Суплатовіч (Акольская) з Кельцаў -
Радому, дачуўшыся пра распусьніка Сікорскага, так ламанулася з акруговага места
Кірэнску Іркуцкай губэрні, праз лясы, тундру, рэкі і моры-акіяны, што супакоілася
толькі апынуўшыся пад шкурай-коўдрай у індзейскага правадыра, нашчадка
славутага Тэкумсэ, у Канадзе. Вацлаў Серашэўскі са сваімі няўдалымі ўцёкамі з
Верхаянскай акругі Якуцкай вобласьці ў Амэрыку, проста малеча, і ёй нават у
пракладкі не падыходзіць...
Суд у Якуцку апраўдаў Мінскага. Яго абвінаваўчая прамова на судзе
“царскага самадзяржаўя” адразу ж была узноўленая “таварышамі” ў рукапісным
выданьні “Вестник Ссылки”, што складаўся ў с. Чурапча Якуцкай акругі.
Затым Менскі ў 1905 г. быў начальнікам баявых дружынаў у Іркуцку і
адцягваўся па поўнай над “царскай” адміністрацыяй. Пасьля 1917 г. уваходзіў, як
запраўдны якуцянін, у склад Якуцкага зямляцтва ў Маскве
Як
і шматлікія людзі ў тыя часы ў СССР, Марка Мінскі абвінавачваўся ў
контррэвалюцыйнай дзейнасьці, але браўнінгам супрацоўнікаў НКУС не палохаў, і
не прымушаў іх зьвяртацца да сябе на “Вы”... Суворыя былі таварышы, і як бы ўжо
не таварышы...
МИНСКИЙ МАРК НАУМОВИЧ
Дата рождения: 1879 г.
Место рождения: г. Томск
Пол: мужчина
Профессия / место работы: ВСНХ, инженер
Место проживания: Москва, Б. Трубный
пер.12, кв. 2
Дата ареста: 3 ноября 1923 г.
Обвинение: за контрреволюционную
деятельность
Осуждение: 21 января 1924 г.
Осудивший орган: НКВД
Приговор: выслан условно на 3 года
Дата реабилитации: сентябрь 1996 г.
Реабилитирующий орган: Прокуратура г.
Москвы
Архивное дело: Дело № 31139
Источники данных: БД «Жертвы
политического террора в СССР»
Літаратура:
*
Якутская исторія. Вып. II. Драма подъ Нохтуйскомъ. Изданіе Всеобщаго
Еврейскаго Рабочаго Союза въ Литве, Польше и Россіи. Женева. 1904. С. 36-48.
Судебная хроника. // Якутскія Областныя Вѣдомости. Якутскъ. № 15. 14
апрѣля 1905.
*
Сибирская хроника. Дѣло Минскаго. // Сибирскій Вѣстникъ политики, литературы
и общественной жизни. Томскъ. № 107. 22 мая 1905. С. 2.
Последнее слово М. Минскаго. // Вѣстник
Ссылки. Чурапча. 1905. 6 с.
*
Киржниц А. Восточно-Сибирская
политическая ссылка накануне первой революции [Убийство начальника конвоя и суд над уюбийцей]. // Сибирские Огни.
Художественно-литературный и научно-публицистический журнал. № 3. Май-Июнь.
Новониколаевск. 1923. С. 134-136.
*
Сысин А. Убийство конвойного офицера Сикорского. (Из жизни ссыльных в
Сибири в 1904 г.). // Каторга и Ссылка. Историко-Революционный Вестник. Кн. 13.
№ 6. Москва. 1924. С. 190-199.
*
Зеликман М. С. Незабываемые
страницы прошлого. (Якутское восстание ссыльных 1904 года). // Из эпохи борьбы
с царизмом. Киевское отделение Всесоюзного общества политкаторжан и
ссыльно-поселенцев. Сборник редактировали Л. Берман, Б. Лагунов, С. Ушерович.
Киев. 1924. С. 30-32.
*
Розенталь П. «Романовка»
(Якутский протест 1904 года). Из воспоминаний участника. Ленинград – Москва. 1924. С. 74.
Одним выстрелом. // Зарин А. Е. За свободу. Как боролись и умирали русские революционеры.
Ленинград. 1927. С. 214-218.
* М. М-ский.
Политическая ссылка Якутской области в 1904-1905 годах. // В якутской неволе.
Из истории политической ссылки в Якутской области. Сборник материалов и
воспоминаний. Под редакцией М. А. Брагинского, В. Д. Виленского-Сибирякова, М.
С. Зеликман, Г. И. Лурье и В. И. Николаева. [Всесоюзное общество
политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Историко-революционная библиотека.
Воспоминания, исследования, документы и другие материалы из истории
революционного прошлого России. Кн. XIХ.] Москва. 1927. С. 34-40.
* Минский М.
Драма на Лене. // В якутской неволе. Из истории политической ссылки в
Якутской области. Сборник материалов и воспоминаний. Под редакцией М. А.
Брагинского, В. Д. Виленского-Сибирякова, М. С. Зеликман, Г. И. Лурье и В. И.
Николаева. [Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев.
Историко-революционная библиотека. Воспоминания, исследования, документы и
другие материалы из истории революционного прошлого России. Кн. XIХ.] Москва. 1927. С. 162-174.
* Лурье Г. Якутская ссылка в девяностые и девятисотые
годы. // 100 лет Якутской ссылки.
Сборник якутского землячества. Под редакцией М. А. Брагинского. [Всесоюзное
общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Историко-революционная
библиотека. Воспоминания, исследования, документы и другие материалы из истории
революционного прошлого России. № 6-7 (XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 201.
* Константинов
М. Революция 1905 г. в Якутии. // 100 лет Якутской ссылки. Сборник якутского
землячества. Под редакцией М. А. Брагинского. [Всесоюзное
общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Историко-революционная
библиотека. Воспоминания, исследования, документы и другие материалы из истории
революционного прошлого России. № 6-7 (XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 230.
*
Виленский-Сибиряров В. Якутская
ссылка 1906-1917 годов. // 100 лет
Якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Под редакцией М. А.
Брагинского. [Всесоюзное общество политических каторжан и
ссыльно-поселенцев. Историко-революционная библиотека. Воспоминания,
исследования, документы и другие материалы из истории революционного прошлого
России. № 6-7 (XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 250.
* Ройзман И.
Г. Нелегальная печать в Якутской области
до Февральской революции. // 100 лет
Якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Под редакцией М. А.
Брагинского. [Всесоюзное общество политических каторжан и
ссыльно-поселенцев. Историко-революционная библиотека. Воспоминания, исследования,
документы и другие материалы из истории революционного прошлого России. № 6-7
(XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 327.
* Минский М., - 201, 230, 250, 327. [Указатель
имен.] // 100 лет Якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Под редакцией
М. А. Брагинского. [Всесоюзное общество политических каторжан и
ссыльно-поселенцев. Историко-революционная библиотека. Воспоминания,
исследования, документы и другие материалы из истории революционного прошлого
России. № 6-7 (XCV-XCVI) 1933.] Москва. 1934. С. 389.
* Минский М. // Казарян П. Л. Олекминская политическая ссылка 1826-1917 гг.
Якутск. 1995. С. 100, 472.
* Минский М. // Казарян П. Л. Олекминская политическая ссылка 1826-1917 гг.
Изд. 2-е доп. Якутск. 1996. С. С. 100, 472.
* Минский М. Н. // Казарян П. Л. Якутия в системе политической ссылке России
1826-1917 гг. Издана на средства главы строительной фирмы В. А. Азатяна.
Якутск. 1998. С. 257, 426, 430, 464.
* Минский М. Н. // Архивы России о Якутии. Выпуск 1. Фонды
Государственного архива Иркутской области о Якутии. Справочник. Отв. ред. проф.
П. Л. Казарян. Якутск. 2006. С. 205, 457.
* Минский М. Н. (1879 - ?), политссыльный, в ссылке 1904-1905
гг. 657, 675, 787, 1091-1096. // Грибановский Н. Н. Библиография Якутии. Ч. VI. Археология.
История. Составители: Н. А. Ханды (отв. сост), Г. С. Родионова, Л. И. Нератова
при участии Т. П. Елисеевой и Л. С. Николаевой. Якутск. 2008. С. 108, 110, 118, 150, 200, 231.
Тэкумсіньня Вайандота
Койданава
ДРАМА ПОД НОХТУЙСКОМ
ХОЖДЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТІИ ПО МУКАМ
Предлагаемый читателям рассказ принадлежит
одному из участников исстрадавшейся партии и совершенно совпадает с
показаниями, данными на предварительном следствии по этому делу политическими,
уголовными и конвойными.
Убийство Сикорского было неизбежным роковым
последствием той бесконечной цепи физических и нравственных мук, которые
пришлось испытать первой летней партии ссыльных, вышедших из Александровской
тюрьмы 15 мая. Этот дорожный ад создался потому, что петербургский и иркутский
обер-негодяй Плеве и Кутайсов, творцы установившегося знаменитого
«Кутайсовского режима», авторы бесчисленного множества нелепейших циркуляров,
касающихся как ссылки, так и пути в нее, нашли себе наконец именно такого
Харона, какого им было желательно: исполнителя грубого, циничного, свирепого,
знающего, что гг. Плеве обещаются покрыть всякое превышение власти, но не потерпят
послаблений. Ссыльные партии совершали свой долгий и сам по себе достаточно
тягостный путь в Якутку сравнительно благополучно и без особенно прискорбных
инцидентов до тех пор, пока «новый курс» не был еще объявлен или, хотя и
начинал уже давать о себе знать «строжайшими» циркулярами, но исполнители еще
не обращали на них достаточно внимания, пока низшие агенты оказывались умнее,
тактичнее, человечнее своих сиятельных и высокопревосходительных начальников.
Но вот исполнителем явился дикий изувер, по всем своим физическим и моральным
качествам вполне способный проникнуться «духом» Плеве-Кутайсовского режима, — и
путь в Якутку неизбежно должен был превратиться в сплошное хождение по мукам, с
глумлением и издевательством, с побоями и поранениями, с опасностью для жизни и
для женской чести.
Несомненно, Сикорский в полном и прямом
смысле слова дегенерат, кретинообразный выродок, но такими же дегенератами
являются и Плеве, и Кутайсов, и сам Ника Милуша, а в переносном смысле русское
самодержавие вообще. Не то характерно для этого строя, что имеются выродки
офицеры, а то, что подобного рода личностям доверяют такую серьезную, трудную,
облеченную громадной властью и требующую много такта функцию, как
начальствование над партией в течение многих недель пути. Надобно еще иметь в
виду, что та партия, которую доверили Сикорскому, была исключительная по своей
многочисленности. Она состояла из уголовных и политиков. Последних при выезде
из Александровского было около 30 человек, а в пути ее состав постоянно
освежался, благодаря тому, что спускали имевших назначение в Ирк. губ. и
принимали новых для Якутки [* Эти новые — опять таки жертвы нового курса, пересылаемые
в отдаленнейшие места Якутской области за самовольные отлучки и т. п.].
И такая большая партия вручается человеку, ни разу раньше не выполнявшему
подобной функции! И как оказалось, он действительно не имел ни малейшего
представления ни о границах своих полномочий, о размере своих прав, ни о
характере своих обязанностей. Без всякой нужды он прибегает к военной силе,
беспрерывно грозится применением розог, то и дело отдает такие приказания,
которых конвой не считает возможным выполнять. В то же время, ему даже и в
мысль не приходит, что он обязан заботиться об элементарных нуждах своей
партии, об удобном помещении для нее на ночь, о питании, о чистом воздухе. Он
строжайше запрещает старосте политиков на стоянках ходить (в сопровождении
конвойного) за покупками, как всегда практиковалось и практикуется. Он не
является к политикам по их зову и запрещает брать от них письменные заявления
на свое имя. Он вообще, как и подобает таким дегенератам, большой трус и ближе
десяти шагов не подпускает к себе для разговора, ежеминутно угрожая
револьвером. Нечистый на руку, он набивал себе карманы, как мог, насчет как
уголовных, так и политиков, обсчитывая их на кормовых, драл с уголовных поборы,
заставлял их покупать у него дрянные продукты и т. п.
Площадная ругань, трехэтажное
сквернословие, от которого краснели даже конвойные, нескончаемым грязным
потоком лились из его уст. Жалкий алкоголик, он вряд ли хоть одну минуту был
трезв, постоянно наливался водкой, ликером, коньяком. И, наконец, для увенчания
«перла создания», половой психопат, он в безстыдном обнаружении своих скотских
вожделений превзошел все границы вероятия. Тут он, наконец, сломал себе шею.
«Собаке — собачья и смерть» — сказали, облегченно вздохнув, уголовные ссыльные,
лишь только узнали о «безвременной» кончине своего пастыря.
***
15 мая должна была выйти из Александровской
тюрьмы первая летняя партия на Якутск. Политических в ней было до 30 человек.
Перед отправкой партии начальник ее, поручик иркутского резервного батальона
Сикорский, пожелал обыскать наши вещи. За время почти полугодичного пребывания
нашего в Александровской тюрьме, этого при отправлении партий никогда не
делали, равным образом и в предыдущие годы. Не желая соглашаться на новое
стеснение, мы внесли обратно и сложили в одной камере все вынесенные уже было
во двор вещи и заперлись в ней, завалив двери. Солдаты последовали за нами,
пытались выбить двери, но безуспешно. Тогда за дверями появились Сикорский,
начальник тюрьмы, помощник тюремного инспектора и др., и после недолгих
переговоров Сикорский дал «честное слово», что обыска не будет, и мы
согласились ехать.
Сикорский, как мы узнали позже, первый раз
ехал с партией. Совершенно незнакомый с тем делом, за которое он взялся, он
третировал нас, как лишенных всех прав каторжан, полагая все для себя
дозволенным, не исполняя даже прямых своих обязанностей. —На привале у деревни
Устъ-Болей, не было приготовлено пищи, из нас никого за пищей поручик в село не
пустил (хотя что постоянно практикуется при проходе партии), обещал послать
конвойного за молоком, но и этого не исполнил. Но прибытии нашем на первую
ночевку (ст. Московка) он даже не зашел во двор этапа, не говоря уже о
помещении. Целый час стояли мы со своими вещами во дворе, уголовные давно
размещены, а нам еще даже не указано было наше помещение. Наконец, завели нас в
одну комнату, слишком тесную для всех. Мы однако разыскали во дворе помещение
для сторожей, где ночевал только один, и где могли найти приют еще человек 15.
Старший унтер-офицер послал от нашего имени спросить у офицера разрешение, но
тот ни сам не пришел, ни ответа никакого не передал. Тогда на утро мы заявили
через конвой, что мы до тех пор не уедем, пока начальник не явится и не
выслушает нас. Сначала он отказал, потом все-таки явился и дал нам всем
«честное слово» при местном приставе, что, во-первых, будет впредь всегда
являться для объяснений с нашим старостой [* Таковым мы выбрали Михаила Лурье.] по его
приглашенію и, во-вторых, будет на каждой ночевке отпускать кого-нибудь из нас
в село. Ни одного из этих обещаний он впоследствии никогда не выполнял, но
тогда мы ему поверили и согласились ехать дальше.
16 мая, когда мы выехали с привала у ст.
Грановской, Сикорский за что-то стал громогласно ругать площаднейшей бранью
конвойных и ямщиков. Мы через старосту нашего предложили ему прекратить
неприличную брань, ссылаясь на присутствие в нашей партии многих женщин. На это
он ответил: «у меня есть циркуляры и распоряжения, как обращаться со стражей
(sic), а если ваши женщины не привыкли, пусть заткнут себе ватой уши».
Подъезжая на ночевку к Жердовке (16 Ѵ) мы
встретили вблизи этапа 7 человек полит. ссыльных из окрестностей (с. Куяды и с.
Тугутуй). Мы бросились друг к другу и обменялись несколькими фразами. Офицер
скомандовал конвою не пускать и велел полицейскому надзирателю отдать такое же приказание
десятским и сотским, бывшим здесь для охраны этапа. Ночью один из них ударил
Марию Бойко (пришедшую), другой Льва Либермана. Мы продолжали говорить с
товарищами, а староста, попросив конвойных пока пообождать с наступательными
действиями, поспешил к офицеру (отставшему саженей па 30) узнать, не может ли
столкновение окончиться мирно. Завидев его, храбрый поручик выхватил револьвер
и закричал: «не подходите, буду стрелять!» Староста однако подошел и потребовал
разрешения свидания, указывая на то, что в противном случае ему, действительно,
придется пустить в ход оружие. Поручик ответил, чтобы мы зашли в этапное
здание, там он нам даст требуемое разрешение. То же самое он громко подтвердил
в присутствии полицейского надзирателя, подбежавшего проверить, действительно
ли он разрешает нам на этапе свидание. Тогда, успокоенные, мы вошли в этапное
здание, даже не прощаясь с товарищами, и... были обмануты: офицер не только не
сдержал слова, но после нашего ухода окружил и арестовал ждавших свидания
товарищей и отправил их в Оек, откуда они были высланы в места жительства.
Узнав об увозе товарищей, мы запиской
просили офицера или явиться к нам или вызвать к себе вашего старосту. Он не
только ничего не ответил, но запретил старшине впредь брать от нас записки (на
ночь до Качуги нас сдавали сельской страже, и мы были в ведении приставов,
которые, кстати, всегда отпускали в село кого-нибудь за покупками, хотя в
некоторых местах офицер протестовал против этого).
Отказался он явиться и утром, не взирая на
данное в Московке «честное слово». Тогда мы опять отказались ехать дальше, пока
он не явится и не пошлет с нарочным телеграмму от нас ген.-губернатору (мы
выставили то самое требование, за которое была избита в январе в Усть-Куте одна
партия: послать телеграмму с требованием свидания). Тогда он явился уже после
того, как уголовные ушли, и лишь после долгих переговоров изъявил согласие
послать эту телеграмму, и мы уехали лишь после того, как она была передана при
нас приставу для немедленной отсылки. В ней мы описали инцидент 16 мая и
кончили так: «просим дать телеграфную инструкцию конвою давать нам свидания с
товарищами полит. ссыльными везде. Если до ст. Манзурка не получим
удовлетворительного ответа, решили протестовать самым решительным образом.
Отсутствие ответа сочтем отказом». Мы считаем воспрещение свиданий в пути с
товарищами совершенно недопустимым. Всегда до графа Кутайсова в дороге на
станках происходили свидания, и никогда еще они не служили причиной «бунтов»
или средством побега. Поговорить с товарищами, поделиться взаимно деньгами и
припасами, обменяться новостями, напиться вместе чаю и т. п. — в этом нет
ничего опасного для правительства, для нас же это важно, так как хоть несколько
поддерживает, оживляет духовно и товарищей и нас. Чтобы политики не виделись с
проезжающими товарищами — вещь совершенно немыслимая, и на этой почве —
запрещении свиданий — были уже и постоянно будут повторяться многочисленные
столкновения ссыльных с администрацией.
На привале у станка. Усть-Ордынская 17 мая
одному из наших товарищей сделалось плохо: он лежал на траве, минутами теряя
сознание. Обратились к сопровождающему партию военному фельдшеру Горонтаеву за
какими-нибудь каплями, но Сикорский запретил ему открыть ящик и достать
лекарство, так как некогда: скоро надо ехать. Мы были страшно возмущены таким
обращением с больным и заявили, что не поедем дальше, покуда товарищу не будет
оказана медицинская помощь. Мы вызвали пристава Оекского стана, и Горонтаев ему
подтвердил, что офицер запрещает ему достать лекарство. В это время Сикорский
скомандовал ближайшим к нему конвойным зарядить ружья и прицелиться в группу
товарищей, окружавших больного. Приказ исполняется. Некоторые из нас
выскакивают вперед и кричат: «стреляйте!» Солдаты без команды опустили ружья к
ноге (часть их уверяла, будто офицер скомандовал: «пли!», но старший медлил
передать приказание). Пристав обещал составить протокол о действиях офицера по
приезде в Ользоновское, мы же настаивали, чтобы протокол был составлен сейчас.
Тогда Сикорский злобно велелъ фельдшеру достать лекарства, а солдатам оттащить
нас от больного, взвалить его в обморочном состоянии на повозку и поехать
рысью. На ІЦепетева, который направился было к нему, он направил револьвер и
крикнул: «говорите со мной на расстоянии 10 шагов!» Солдаты приказание
исполнили, но у многих стояли слезы в глазах, и вообще вся эта бессмысленная,
бесчеловечная история возмутила их до глубины души.
В Ользоновском, где мы ночевали, упомянутый
уже Оекский пристав отказался составить протокол на том основании, что
Ользоновское уже вне его стана! Но почему же он в таком случае сам отложил
составление протокола до приезда сюда?!
В Мамзурке мы остановились на привал 19
мая. Ответа из Иркутска на нашу телеграмму не было. С офицером мы уже больше и
говорить не хотели, но тамошнему приставу мы заявили, что поддерживаем наше
требование о свидании (пристава нас сопровождали все время, причем постепенно
охрана усиливалась: после Жердовки за нами ехали уже 2 урядника верхом: с
Ользоновского прибавились еще двое верховых сотских: перед Манзуркой караул
снова был подкреплен еще одним урядником и одним сотским).
Мы расположились у стены. Кругом было
собрано, вероятно, не менее сотни десятских и сотских. Явился упомянутый
пристав и известил нас, что местные ссыльные, склоняясь на его просьбы и
опасаясь ареста, дали ему слово не являться на свидание. Мы потребовали, чтобы
он предоставил нам возможность убедиться в верности этого заявления, после чего
мы мирно поедем дальше. Пристав согласился повести нашего старосту в волостное
правление и дать ему свидание с некоторыми местными ссыльными, дабы проверить
его слова. Но тут вмешался Сикорский, объявил, что он на это не согласен, и
велел конвойным силой тащить нас к повозкам. Тщетно уверял его пристав, что
берет на себя всю ответственность за отлучку нашего старосты и возлагает на
Сикорского ответственность за имеющее произойти столкновение. Офицер жаждал
избиения, чтобы, как он выразился, поддержать свой престиж и отомстить нам за
то, что полнейшая его негодность, благодаря столкновениям с нами, до
осязательности выступила наружу. Пристав отозвал почти всех крестьян: осталось
из них человек 15, по большей части добровольцев, сверх того нас окружали 23
конвойных солдата; нас же было 22 мужчин и 5 женщин.
Началась свалка. Нас тащили со всех сил к
повозкам, мы вырывались и не давались. Многих сильно избили, в том числе и
женщин, у других порвали платье. А офицер держался подальше и издали
командовал.
Тем не менее уложить нас на телеги не
удалось: почти все снова собрались плотной группой перед повозкой. Тогда,
следуя наставлениям Сикорского, нас стали бить прикладами. Некоторые получили
до 30 ударов. Пионтковскому подставили штык к животу и требовали, чтоб он
отошел к повозке, чего он не исполнил. Крестьяне били многих уже поваленных на
землю, а офицер стоял в отдалении, посылая по нашему адресу площадную брань, а
когда из среды уголовных стали раздаваться замечания в нашу защиту, он свирепо
пригрозил приковать их к телегам.
Наконец, так как мы продолжали упорно соскакивать
с повозок, несмотря на удары, то нас всех, не исключая и женщин, привязали к
телегам и повезли из села. Сикорский долго ехал рядом и глумился над нами.
20 мая привезли нас в Качугу, где кончилась
сухопутная часть нашего «путешествия» и началась речная. Через село нас не
повезли, и ссыльных там нет. Доставили нас на пустынный берег и посадили на
паузок. Всего шло в нашей партии три паузка: кроме нашего, был один с
уголовными, а третий был занят самим Сикорским.
Выехали мы 23 мая, в тот же день проплыли
мимо Верхоленска, где остановки не сделали. В Верхоленском и Киренском уездах
Сикорский продолжал выдавать нам кормовых денег по 15 коп. вместо 18 в
Верхоленском и 25 коп. в Киренском уездах. Мы не знали, не уменьшены ли
кормовые по случаю войны и потому решили навести справки у киренского
исправника. С верхоленским же исправником мы не хотели вступать в объяснения,
так как он однажды отказался явиться к политическим (партия 26 февраля).
Сикорский не выдавал часть кормовых и солдатам и уголовным, платил гребцам
меньше условленного, а иногда и вовсе не платил, брал взятки у уголовных по
5-10 рублей (Домбровского, Чанина и др.) за разрешение лучше поместиться и т.
п., вообще, в стремлении нажиться не стеснялся ничем.
Сикорский приказал запирать двери паузка,
держать нас все время внутри, в духоте и темноте, и не пускать на палубу. Мы
заявили конвою, что выбьем двери и будем так делать всегда, если только нас
запрут. Сикорскій неоднократно повторял в пути свое приказание, но часть
конвоя, заведовавшая отим, не хотела столкновения, и двери осталась
незапертыми. В Усть-Куте мы рассчитывали застать колонию, но там никою не
оказалось. Все высланы в Якутскую область [* Часть их присоединилась к нам в Киренске.]. Здесь
высадились Иофинов и Зиссерман для следования в Илимск, и проводили мы их
песнями, несмотря на строгое запрещение. Первое село, где были политики —
Марковское. Когда мы проезжали мимо, выехали нам навстречу политика. Мы убедили
наших конвойных не препятствовать поговорить с ними несколько минут и
обменяться рукопожатиями. Здесь мы высадили Пионтковского и Кортуна, также при
пении революционных песен.
Поехали дальше и в ночь на 2 июня между с.
Вомино и с. Криволуцким поднялся такой туман,
что паузки остановились и на ночь причалили к берегу (не у деревни, а прямо у
тайги). В первом часу ночи часовой, стоявший на крыше у кормы, услышал сильный
плеск от падения в воду чего-то большого, и, как он передавал офицеру, крик:
«тону!». Он дал выстрел, чтобы поднять тревогу. Мы все высыпали наверх, кто в
чем был, стараясь выяснить, кто свалился. На воду спустили две лодки с
солдатами, некоторым казалось, будто что-то темное выплывает еще на
поверхность, но никого не вытащили. Позже, шагах въ ста от паузка прибило
студенческую шапку Щепетева. Мы лишились таким образом доброго товарища
Александра Георгиевича ІЦепетева, быв. студ. 5 курса Лесн. Инст. (первое дело
Спб. Союза Борьбы, второе — севастопольское дело, шел на 5 лет).
На берег явился офицер. И без того страшно
взволнованный (от волнения, застегивая бурку с револьвером в руках, он чуть не
застрелил себя: пуля прошла у уха), он пришел в форменное исступление, когда
увидел, что мы все наверху на палубе, да еще ночью. Он велел солдатам
вернуться, выстроить всех политиков наверху и окружить их тесным кольцом, а сам
с берега стал осыпать нас градом отборнейшей, непечатной ругани. «Гони эту
политическую сволочь, вопил он, строй их в затылок, считай!» Когда старший
доложил, что утонул Щепетев, что его именно и не достает и подал ему найденную
шапку, Сикорский рассвирепел еще более. «Утонул по всем правилам искусства —
даже шапка плавает! Это все фокусы! Знаю я бабушкины сказки! Он, мерзавец,
спрятался между вещами или среди уголовных и смеется над нами. Сейчас отыскать
его и дать ему 30 розог!» (Каждая фраза сопровождалась или прерывалась такими
циничными трехэтажными ругательствами по адресу всех политических вообще и
Щепетева в частности, каких мы не слышали нигде и никогда за все долговременное
пребываніе наше по тюрьмам. Даже конвойные негодовали). Вдруг Сикорский
встрепенулся и выпалил: «Приготовить кандалы и воз розог, они все в заговоре,
нарочно тревогу подняли; как только найду его, всех политических начну пороть
по очереди, до самого утра сечь буду, будут знать, как побеги устраивать». С площадной
руганью он снова и снова возвращается к вопросу о розгах, который видимо прочно
угнездился в его воспаленном мозгу, входит в детали, смакует предстоящую
экзекуцию и т. д. Мы еще в Манзурке порешили и перед побоищем ему заявили, что
не будем ему отвечать и станем игнорировать все его речи, какие бы то ни было.
Здесь однако покойный Шац не выдержал, забыл уговор и крикнул: «Врешь, негодяй,
молчать!» — «Дать этому жиду прикладом!» — завопил офицер, но ни один конвойный
не пошевельнулся. Солдаты были возмущены всей этой дикой сценой.
Сикорский начал понемногу успокаиваться,
приказал конвою войти в наузок и «колоть штыками все мягкие бебехи», где
ІЦепетев мог бы спрятаться, а также осмотреть, нет ли его на уголовном паузке.
Штыками солдаты не кололи, и Щепетева нигде не оказалось. Сикорский велел всех
нас свести на берег, сам взобрался па паузок и стал резонерствовать: «Не раз
надо было в мерзавца стрелять, а десять раз. Оно, впрочем, и понятно. Не
приучился с детства к труду, воровал у правительства, вот и нашел себе
достойную кончину. Утонул, и черт с ним. Ничего умнее не мог и придумать.
Составим протокол в Киренске» (все это с поминанием через каждые 10 слов
родителей).
Некоторые вещи Щепетева взяли на офицерский
паузок, и мы поехали дальше.
Следующая колония ссыльных в Киренске (6
чел.). Там к нам посадили новых 6 чел. из тюрьмы (студ. Сысина из Н.-Новгорода,
ученика зубоврачебной школы Рузера из Одессы, Бернштейна, загр. студ. из
Одессы, Китаева, Кириллова, Микшу — все это Усть-Кутская колония). В Киренской
тюрьме осталось 5 чел. из села Мартыновского, преданных суду за сопротивление
властям (их избили и связали). В Киренске нам удалось иметь свидание с 3
политическими, благодаря отсутствию офицера и несмотря па крики старшего:
«отогнать».
Следующую колонию Петропавловское — мы
проплыли ночью, так что там ничего не было, но за то крупная история
разыгралась в с. Чечуйском.
Были мы там 4 июня. Оба местные политики
(Яндовский и Косарев) явились к паузку и нам с ними удалось поговорить. Потом
мы сдали здесь Евгению Гиршфельд (для следования в Непу); она ушла и позже
вернулась с одним из политиков, чтобы преподнести нам связку баранок. Некоторые
из нас, стоявшие на берегу, пошли ей навстречу. Офицер стал кричать: «прогнать
пришедших, загнать всех па поверку и т. д.» Мы все бросились, кто по доске, кто
по воде на берег, в то время, как со всех паузков сбежались конвойные, чтобы
гнать нас обратно на паузок прикладами. Мы защищались, отталкивая приклады,
пытаясь их выхватить и т. д. Либерману не только разбили прикладами голову, но
и ранили его довольно глубоко штыком в бок, так что он и до сих пор лежит и не
может ворочаться без посторонней помощи. Шинкаревской порезана штыком рука и т.
д. Нас таким образом оттеснили в воду к самому паузку. «Пли!» — вопил офицер,
солдаты хотели продолжать драться прикладами, требуя дать им произвести
поверку. Мы собрались на носу, некоторые стали бросать поленья. Одному солдату
попало в ноги, другому — палкой в лицо. Тогда солдаты отошли на берег и взяли
на прицел. Мы запели «Варшавянку», а они стали стрелять над нашими головами.
Стреляли не залпами, всего пуль было выпущено около 30. После выстрелов солдаты
несколько успокоились, особенно, когда увидали, что на поверку мы все таки не
становимся. Мы тут же стали перевязывать наших раненых. Скоро все затихло.
Через некоторое время офицер потребовал к
себе на паузок для переговоров обоих наших старост («политического» и
«экономического»), а скоро еще двух. Мы не хотели никого отпускать на паузок к
извергу-офицеру, ибо от него можно было ожидать всяких выходок, но позванные
товарищи не хотели дать Сикорскому повода думать, что его боятся, и пошли, но с
твердым намерением по прежнему воздерживаться от всяких разговоров с ним и
игнорировать все его грубости. Это была ошибка, ибо кроме «тыкания», площадной
ругани и прежних угроз «разложить», выпороть, всыпать каждому по 30 розог, они
от него ничего не слыхали. Все это происходило в присутствии конвойных, причем
во время «беседы» двое солдат, по приказанию поручика, держали политического за
руки. Зато совершенно другой прием встретил четвертого из приглашенных офицером
товарища нашего, молодую девушку Вейнерман.
Когда ее привели, никого из политиков на
офицерском паузке уже не было. Он приказал привести ее к себе в комнату, удалил
конвойных, запер двери на крючок и обмотал его веревочкой, затем, расстегнув
тужурку, разлегся на кровати. Девушка эта давно уже имела несчастье привлечь на
себя внимание развратника. Он многократно в дороге останавливал на ней свой
наглый взгляд. Много позже мы узнали от фельдшера, что Сикорский говорил ему,
что В. ему нравится и что «хорошо бы ею воспользоваться». — Итак, он лег и
начал беседу, отрывки которой долетали до обоих солдат, стоявших за дверью.
«Ты, арестантка, должна стоять передо мною, ты ведь, политическая, значит,
самая последняя женщина, у которых по 20 любовников, самка, животное и та
отталкивает от себя самцов, ты же, верно, со всеми развратничаешь, недаром ты
похудела со времени выезда из Александровской тюрьмы. Ты была такая красивая.
Верно тебя плохо кормят, вот тебе какао, это питательная, вкусная вещь. Да
садись, хоть ты и арестантка, но моя гостья, садись на табуретку у моей кровати
(это он много раз настойчиво требовал); я тебе дам всего: вот тебе пиво,
коньяк, портвейн, водка (снимает все это с полки и ставит на стол). Может ты
думаешь, что в какао что-нибудь подмешано? Я буду с тобой из одной чашки пить
(отпивает). Ну пей же, а то силой заставлю».
Затемъ он ей цинично заявил, что приказал
паузку отчалить от берега, что на нем кроме них никого нет, что она целиком в
его власти, и сделал ей гнусное предложение, обещая в вознаграждение деньги,
протекцию в Якутске, угрожая, издеваясь и т. д. В один из моментов, когда он
отвернулся к кровати, давая ей «подумать», ей удалось снять дверной крючок
(веревочку она еще раньше осторожно отмотала), отворить дверь и выбежать.
«Увести ее, бестию!» — крикнул вслед, вне себя от ярости, Сикорский. Когда она
вернулась к нам, с нею сделался истерический припадок, и лишь несколько часов
спустя, мы узнали, в чем дело. За все время пребывания в комнате офицера она не
проронила ни одного слова.
Прошло немного времени, и в ночь на 7-ое
июня, по пути в Витим, офицер на ходу прислал к нам со своего паузка двух
конвойных Палканова и Борзова с приказом привести ему немедленно В. Был третий
час ночи. И нам, и солдатам было ясно, зачем ее требуют; старший унтер-офицер
Компанец отказался ее отослать. Мы решили между собою, если придут брать ее
силой, завалить двери и поджечь паузок, чтобы всем задохнуться и потонуть, но
не допустить гнусного насилия. Мы об этом заявили нашим солдатам и указали на
полнейшую незаконность требования их офицера. Сикорский вторично прислал солдат
со строгим приказом привести ее немедленно, хотя бы связанную, остальных же
политиков, если они будут мешать или удерживать — сначала колоть штыками, а
потом просто убивать. Приказание и на этот раз не было исполнено, конвой
согласился послать от себя телеграмму начальнику Александровской местной
команды о том, что Сикорский «приказывает привести В. для изнасилования» и т.
д. Телеграмма кончалась просьбой сделать надлежащие распоряжения. Послана была
она из Витима, откуда и нам удалось отправить срочную депешу ген.-губернатору о
событиях 4 и 7 июня, которая заканчивалась так: «Предлагаем Вашему В-у
обезопасить нас от позорящих выходок, поступков офицера. Малейшее проявление
насилия вызовет самое отчаянное сопротивление. Копия послана министру». Затемъ
следовала подпись нашего старосты.
Между тем, развратный поручик не терял
надежды добиться своего. В Витиме он приказал конвою привести к нему В. на
ближайшей остановке. Старший нам сообщил, что Сикорский, без сомнения, повторит
ночью свою попытку добыть ее, якобы «для допроса». Конвой, видимо, начинал
колебаться, следует по прежнему не выдавать ее и немного трусил, раскаивался в
посылке телеграммы. В Витиме же к нам случайно зашел пристав, желавший пройти к
офицеру. Староста наш рассказал ему подробно все положение дел, и он обещался
плыть с нами до границы Иркутской губернии для охраны.
Перед отъездом из Витима Сикорский получил
какую-то телеграмму из Иркутска, послал ответ в 143 слова, говорил фельдшеру,
что мы пожаловались на него губернатору, что он за это отплатит и т. д. Пока
плыл с нами пристав, ничего особенного не происходило. В каком напряженном
состоянии мы все время пребывали — легко понять. Ночью многие не спали. Другие
спали не раздеваясь. Все время мы ждали нападения, так как было ясно, что
достаточно офицеру произвести на конвой давление, удалить из нашего паузка
более толковых солдат и заменить их другими, вполне невежественными (среди
нашего конвоя было много татар, — тупые, бессловесные, озлобленные исполнители
приказаний офицера), — и они сделают все, чтобы загладить отправку своей
телеграммы. У женщин все время был при себе яд.
Наконец, ожидаемое нами с таким общим
напряжением новое нападение выродка-офицера совершилось, — и разыгралась
неотвратимая драма.
Граница Иркутской губ. была нами уже
пройдена, и Витимский пристав покинул нашу партию.
10 июня ночью мы стали под Нохтуйском.
Неожиданно в 3 ч. ночи (точнее, утра) приехал на наш паузок пьяный Сикорский,
приказал ударить «тревогу», и без всякого повода (мы мирно спали внутри паузка,
кроме нашего дежурного), извергая потоки непечатной ругани собрал конвойных со
всех паузков, велел зарядить винтовки, выстроил всех против наших дверей,
отослал в село старшего, не выдавшего ему в прошлый раз В., открыл двери и,
шатаясь от выпитой водки, с нагайкой в руке, направился... прямо в женское
отделение нашего паузка.
Момент был решительный. В проходе между
нарами в это время стоял студ. Минский. В руке у него сверкнул револьвер.
Раздался выстрел, пуля пробила сонную артерию, офицер без крика, мертвый
опустился на землю.
Мерзавец получил достойную кару, но, к
сожалению, двое солдат (татар) сочли нужным со своей стороны, пустить в ход
огнестрельное оружие. Сейчас же за револьверным выстрелом раздались два
выстрела солдат. Одна пуля убила наповал Наума (Нафтоли) Шаца (в сердце),
другая задела щеку и пробила ухо Минскому. Дальнейшие выстрелы остановил
Минский, сохранивший, несмотря на разразившуюся драму и на свою рану, полное
хладнокровие. «Я, Марк Минский, убил офицера, чтобы он не изнасиловал нашей
девушки — заявил он громко солдатам — против вас, солдаты, мы ничего не имеем;
в вас я стрелять не буду; подойдите и отберите у меня револьвер, или, если
хотите, я выйду на нос и расстреляйте меня или даже всех нас, но не трогайте
детей и чужих» (в паузке были несколько посторонних личностей).
Солдат удалось успокоить, и они согласились
послать за сельскими властями.
Ровно через сутки, в ночь на 12 июня
приехал офицер из Киренска с приказом сместить Сикорского, заместить его и
везти с собою до Якутска. Этот приказ был следствием телеграммы конвоя. Наши
жалобы оставалась без результата, и этот приказ пришел слишком поздно!
Пошли другие порядки: стали пускать в село,
на берег, выдавать полностью кормовые и т. п. Приехал следователь и по пути
произвел следствие (оно уже закончено).
Минский первую ночь провел в деревне,
затем, покуда длилось следствие — его держали на офицерском паузке, а последние
дни уже вместе с нами. Суд над ним будет в августе. Пока его обвиняют по 1451
ст. (предумышленное убийство «начальника» — наказание: бессрочная каторга), но
следователь говорит, что на суде, верно, заменят другой, более легкой, с
наказанием 3-4 лет арестантских рот.
Правдивые показания на следствии давали и
уголовные, и конвойные. Мы же все заявили, что каждый из нас сделал бы то же
самое, что Минский.
В Олекме оба наши старосты были в городе.
В Якутске на пристани нас встретили
торжественно до 40 политиков, с революционными песнями, возгласами и двумя
флагами, красным и черным. Было при этом много полиции и солдат, но до кровавой
развязки но дошло.
Кончилось наше «путешествие». Теперь
остается только «поездка» в места назначения.
Состав партии,
прибывшей в Якутск 21 июня 1904 г.
1) Басин Абрам, с.-р. (до приговора).
2) Болотин Аким, Москва, с.-д., 5 лет.
3) Биндеръ Давид, Москва, Одесса, с.-р., 5
л.
4) Вайнерман Ревекка, Ковно, Бунд, 3 г.
5) Гиндин Гр., Баку, с.-д., 4 г.
6) Дашевский X., Елисаветградъ, с.-д., 5 л.
7) Закон Яков, Варшава, Бунд, 3 г.
8) Каган Лиза, Вильна, Бунд, 3 г.
9) Кириллов Михаил, Екатеринослав, с.д., 4
г.
10) Китаев Ив. Иван., Возн., с.-д., 4 г.
11) Бернштейн Алекс., Одесса, с.-д., 4 г.
12) Либерман Лев, Варшава, Бунд, 3 г.
13) Лурье Михаил, Симферополь, с.-д., 8 л.
14) Лифшиц Ной, Варшава, Бунд, 3 г.
15) Минский Марк, Томскъ, с.-д., 4 г.
16) Микша Осип, Вильна, П.С.-Д., 4 г. + 3
г.
17) Михлин Сол., Симферополь, с.-д., 4 г.
18) Рузер Леон, Одесса, с.-д., 4 г.
19) Рубинштейн, Кишинев, с.-д.. 3 г.
20) Решетов Егор, Иркутск, с.-д., 5 л.
21) Слуцкина Татьяна. Екатер., с.-р. (до
приговора).
22) Сысин Алексей, Н.-Новг., с.-д., 4 г.
23) Розенфельд Борис, Варшава, Бунд, 4 г.
24) Таубин Овсей, Киев, с.-д., 3 г.
25) Шинкаревская Рахиль, «Южн. Раб.», 3 г.
26) Этингер Абр., Витебск, с.-д., 3 г.
/Якутская исторія.
Вып. II. Драма подъ Нохтуйскомъ. Изданіе Всеобщаго Еврейскаго Рабочаго Союза въ
Литве, Польше и Россіи. Женева. 1904. С. 36-48./
СИБИРСКАЯ ХРОНИКА
Дело
Минского.
Прокурор якутского окружного суда подает
протест в судебную палату по поводу оправдательного приговора, вынесенного
судом по делу М. Н. Минского, обвиняющегося в убийстве поручика Сикорского.
«В. Об.»
/Сибирскій Вѣстникъ политики, литературы и общественной жизни. Томскъ. №
107. 22 мая 1905. С. 2./
ВОСТОЧНО – СИБИРСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ССЫЛКА
НАКАНУНЕ
ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Восточная Сибирь с ее обилием «гиблых» и
«отдаленнейших» мест издавна была наиболее излюбленным местом царского
правительства для ссылки своих «внутренних врагов». Но особенно усилилась
ссылка в Восточную Сибирь с начала 900 годов, когда в России начало заметно
крепнуть молодое рабочее движение под руководством социал-демократии. Можно
смело утверждать, что в первое пятилетие настоящего века (1900-1905 гг.)
восточно-сибирская ссылка была наиболее крупной количественно, наиболее
квалифицированной по своему революционному составу, а потому и наиболее
«беспокойной» и непримиримой по отношению к своим угнетателям. Нигде в местах
водворения политических ссыльных в этот период не было также такой высокоразвитой
и разветвленной революционной общественности, с ярко выраженными течениями,
собственными повременными изданиями, как в Восточной Сибири.
Ввиду того, что эта полоса ссылки очень
слабо освещена в печати, мы решили опубликовать небольшой очерк жизни и борьбы
политических ссыльных в В. Сибири накануне первой революции, составленный на
основании материалов (заметок, корреспонденции и писем ссыльных, тайных
документов и т. п.), помещенных в одном из нелегальных (заграничных) журналов —
(«Последние Известия»)...
Убийство начальника конвоя и суд над
убийцей.
Насилия и издевательства, которым
политические ссыльные часто подвергались в пути к месту своего водворения со
стороны конвоя, часто превосходили все пережитое ими за годы предварительного
заключения в тюрьме и предстоявшие им испытания в «гиблых» местах ссылки.
Один из таких случаев имел место в июне
1904 года на Якутском тракте.
Весной 1904 года из Александровского
централа (Иркутской губ.) по направлению к Якутску отправилась большая партия
ссыльных в составе 200 уголовных и 35 политических. Во главе конвоя стоял
офицер Сикорский, все время страшно издевавшийся над политическими, без всякой
нужды прибегавший к военной силе, грозивший применением розог и т. п.
Первое крупное столкновение с ним
политических произошло и дер. Манзурке (верст 150 от Иркутска). Вопреки
установившимся традициям, Сикорский категорически и в чрезвычайно грубой форме
отказался разрешить партии свидание с манзурскими ссыльными, и когда некоторые
из конвоируемых продолжали настаивать на своем требовании, Сикорский приказал
привязать всю партию, не исключая и женщин, к телегам. При исполнении этого
приказа, между конвоем и ссыльными произошла свалка, во время которой ссыльные
были жестоко избиты; все же их всех связали и в таком виде увезли.
Весьма возможно, что эта дикая расправа
Сикорскому сошла бы благополучно, как это неоднократно бывало до и после этого.
Но вечно пьяный бурбон Сикорский возомнил, что после этого «урока» политические
уже не будут оказывать ему сопротивления, чего бы им над ними не проделывал. И,
конечно; жестоко ошибся, и эта ошибка стоила ему жизни.
Через несколько дней после описанного
случая, Сикорский сделал гнусную попытку совершить насилие над одной из политических
— девятнадцатилетней девушкой, для чего он вызвал ее к себе якобы на «допрос».
Какой характер имел этот «допрос» видно хотя бы из того, что после него эта
ссыльная пыталась покончить с собою...
Несколько дней спустя, Сикорский послал
ночью за этой девушкой конвойных, но даже у загрубелых конвойных солдат,
знавших зачем офицеру ночью понадобилась ссыльная, не хватило духа исполнить
приказ Сикорского.
В ночь с 10 на 11 июня, когда паузки
(баржи) с партией остановились на ночлег у пустынного берега Лены, Сикорский
пришел на паузок политических и направился в женское отделение. Цель его
ночного визита не оставляла ни малейшего сомнения, и ссыльный студент Минский
несколькими выстрелами из револьвера убил наповал звероподобного офицера.
Т. Минский, конечно, был тотчас же
изолирован от партии и под усиленным конвоем доставлен в Якутскую тюрьму.
5 апреля 1905 года т. Минский предстал
перед Якутским окружным судом по обвинению в убийстве офицера Сикорского. Дело
слушалось, как водится, при закрытых дверях, дабы, как было сказано в
официальном постановлении распорядительного заседания Суда, «не ронять престижа
государственной власти и не препятствовать правильному ходу судебного
следствия».
Защищали т. Минского прис. пов. Переверзев
и местный частный поверенный Никифоров (якутский). Наиболее сильное впечатление
произвело последнее слово самого подсудимого, в котором т. Минский из
обвиняемого фактически превратился в обвинителя и при том всего политического
строя в целом. Произнести свою богатую яркими фактами и прекрасно построенную
речь целиком т. Минскому не удалось. Председатель суда почти на каждом слове
его прерывал замечаниями, что «это к делу не относится». Однако, основные
положения подготовленной им речи т. Минский все же успел развить на суде.
Вот несколько отрывков из этой речи,
опубликованной в № 237 «П. И.»
«Г.г. судьи! В
своих показаниях я старался дать картину бесправия, которое окружало нас. Вы
видели, что Сикорскому, — этому грубому развратному бурбону была вручена
большая партия политических ссыльных. Высшее начальство, доверяя ему такое
ответственное дело, не только не справляется, что это за человек, но снабжает
его особыми инструкциями. Эти инструкции дают, по-видимому, в его руки огромные
полномочия, Быть может, на основании их он и грозил нам кандалами и поркой;
быть может, они заранее прощали ему все преступления, недаром же он так упорно
добивался выполнения своего желания изнасиловать Вайнерман. Ведь он не оставил
этой мысли даже после того, как получил в Витиме запрос по поводу нашей
телеграммы.
Все это, с ужасающей ясностью, указывает на
полнейшее бесправие русского гражданина. И таких, как Сикорский, не мало; он не
исключение. Его поступок нельзя объяснить отдаленностью места действия от
центра России. Он — родное детище русского самодержавия.
Русское самодержавие богато фактами самого
грубого насилия Нам всем хорошо памятны история изнасилования в самом центре
России, в Петербурге, Ветровой, история изнасилования в Тихорецке судебным
следователем Золотовой. И таких фактов каждый из нас, если пороется в своей
памяти, найдет очень много. Я порка? Разве чиновники когда-либо останавливались
перед этим? Вспомните, как на Каре драли политическую заключенную Сигиду, после
чего несколько ее товарищей покончили с собой. Вспомните, как князь Оболенский
драл крестьян после Харьковских и Полтавских беспорядков, как фон-Валь и ген.
Келлер драли демонстрантов — один в Вильне, другой в Екатеринославе. Еще не
сошло с газетных столбцов дело ген. Ковалева, выпоровшего доктора Забусова.
Драли, не разбирая ни чина, ни пола, ни возраста. Россия, это огромная
каталажка, в которой ежеминутно разыгрываются дикие оргии произвола, в которой
ни один обыватель не поручится, что он не будет выдран, а жена и сестры его не
изнасилованы.
Сикорский имел перед собою много примеров
для подражания: и, если бы сейчас вам не пришлось судить меня, деяние
Сикорского кануло бы в вечность, а русское общество узнало бы о нем только из
нелегальной литературы или из какой-либо глухой заметки в легальных газетах.
Так самодержавие ведет борьбу за
существование.
Демонстранты — рабочие, студенты и даже
дети расстреливаются на улицах городов. Тюрьмы и крепости переполнены. Часто в
них производятся страшные избиения заключенных.
После долгого заключения в самых ужасных
условиях, люди ссылаются без суда и следствия в далекие российские и сибирские
тундры. Но и здесь правительство не дает спокойно жить своим «внутренним
врагам». Отношение к ним тесно связано со всей внутренней политикой правительства.
И как в России политика «сердечного попечения» сменяется необузданной реакцией,
так и здесь, в ссылке, довольно сносный режим сменяется страшными
притеснениями. Нам пришлось ехать в самый разгар Плеве-Кутайсовской реакции, и
все притеснения, сыпавшиеся на ссыльных вообще, сыпались и на нас, как из рога
изобилия. Разнузданность правительственных агентов доходила до ужасающих
размеров. Сикорский явился только порождением всего существующего строя. Не
было, как вы видели, никаких средств положить конец насилию с его стороны —
никаких, кроме выстрела.
Разделяя целиком взгляды Рос Соц. Дем. Раб.
Партии, в рядах которой я работал до ареста, я являюсь принципиальным
противником террора. В согласии с программой этой партии я считаю освобождение
России и уничтожение произвола администрации возможным не помощью
террористических актов, а помощью долгой планомерной борьбы народных масс,
последним актом которой явится народное восстание. Если я в данном случае
прибегнул к помощи револьвера, то не потому, что хотел в лице Сикорского
поразить русское самодержавие, а потому, что это было единственное средство
оградить себя и товарищей от насилия и позора. И не под влиянием аффекта или
запальчивости стрелял я, — нет, я стрелял вполне сознательно; я знал, что только
такой отпор Сикорскому, облеченному неограниченной властью, избавит нас от
насилия...
От вас, г. г. судьи, я не жду оправдания!
Ваше оправдание будет равносильно обвинению вами правительства, которому вы
служите, в том, что оно дает власть такому человеку, как Сикорский. Но, с
другой стороны, осудив меня, вы признаете, что действия Сикорского были вполне
допустимы, что его полный произвол и надругательства, его образ действий был
образом действий русского правительства; вы признаете, что Сикорский был плоть
от плоти и кость от кости этого правительства, и тем самым вы запачкаете и
себя, и все русское правительство той грязью, какой покрыл себя Сикорский».
После этой речи и выяснения всех
обстоятельств дела, даже царские судьи, столь заботившиеся о престиже власти,
вынуждены были признать, что тов. Минский убил Сикорского, находясь в состоянии
необходимой самообороны — и оправдали его.
А. Киржниц.
/Сибирские огни. Сибирские
Огни. Художественно-литературный и научно-публицистический журнал. № 3.
Май-Июнь. Новониколаевск. 1923. С. 132, 134-136./
УБИЙСТВО
КОНВОЙНОГО ОФИЦЕРА СИКОРСКОГО
(Из
жизни ссыльных в Сибири в 1904 г.)
1904 год для политической ссылки в Сибири
был полон различных бурных событий. С одной стороны, в связи с начавшимся
быстрым ростом революционного рабочего движения в России, — в ссылку шли
многочисленные новые партии ссыльных, вырванных прямо с работы, с неостывшей
революционной энергией, искавшей для себя выход; с другой стороны, местная
администрация, отражая на себе общие черты правительственной политики того
времени, усиливала репрессии и всяческие стеснения, обостряя тем самым
положение. Ряд циркуляров гр. Кутайсова, тогдашнего генерал-губернатора
Восточной Сибири, предписывал полиции на местах усилить надзор за ссыльными,
следить за недопущением для них ряда занятий, привлекать к ответственности за
выезд на несколько верст и даже за выход из селения, в котором тот или другой
ссыльный должен был жить; введен был официальный просмотр всей корреспонденции,
расширены штаты надзирателей, которые ежедневно являлись на квартиры для
проверки ссыльных, что влекло за собой различные стычки; чрезвычайно задерживались
выдачи «казенных пособий», на которые должны были жить ссыльные, и г. д.
Создалось широкое поле для постоянных недоразумений и столкновений; полиция,
подгоняемая суровыми циркулярами сверху, энергично «принимала меры»; ссыльные
дружно «саботировали» циркуляры и вели партизанскую борьбу. Связанные длинными
переездами и совместным пребыванием в тюрьмах и на этапах, ссыльные и по
приезде в места их ссылки, тщательно поддерживали связь между собой, и все
случаи репрессий и столкновений быстро становились известными всем. Сначала как
бы по молчаливому соглашению, а потом и по оформленным перепиской уговорам,
решено было не уступать в этих казалось бы мелочах «ссыльного быта», и в целом
ряде мест начались эти местные «истории», повлекшие за собой новые репрессии.
Особым циркуляром Кутайсова предложено было всех замеченных в таких
столкновениях вновь подвергать аресту и высылке в «самые отдаленные места»
Якутской области, иными словами в Колымский округ, т.-е. за 3.000 верст от
Якутска. Циркуляр этот был приведен в исполнение; в конце 1903 г. и в течение
1904 г. потянулся в Якутскую область новый поток ссыльных, так сказать уже
местных, — не из России, а пересылаемых в наказание за их своевольное повеление
— прямым распоряжением местной власти.
Участились побеги, принявшие
систематический характер; к побегам из Иркутской и Енисейской областей
присоединились и, бывшие ранее почти невозможными, побеги из Якутской области.
Таковы побеги покойного тов. Трусевича из Олекминска, тов. Лурье (Ларик) из
Якутской области, тов. Винник и др. из Верхоянска (неудачный) и ряд других.
Для иллюстрации создавшегося положения
можно привести бытовую картинку жизни группы ссыльных, в которой мне лично
пришлось пробыть часть срока моей ссылки, закончившейся той трагедией с убийством
конвойного офицера Сикорского, о которой речь ниже.
В с. Усть-Куте, Киренского уезда Иркутской
губернии, расположенном в 700 верстах от Иркутска, поселен было в 1902-1903 г.
ряд ссыльных, имевших сроки ссылки от 3 до 4 лет. Перед этим в Усть-Куте был в
ссылке и только что бежал тов. Троцкий.
В присланных новых группах были тов.
Беренштейн (Одесса), тов. Л. Рузер (Одесса), — видный работник РКП, тов. Чепик
(Томск), Бас (Екатеринослав), Китаев (Иваново-Вознесенск), Сысин (Н.-Новгород),
Кириллов (Екатеринослав), Микша (Вильно). Бронштейн (Одесса) и др. Осенью из
Усть-Кута бежали тов. Бронштейн и Злочевский; отвез их до ближайшего стана тов.
Микша, ссыльный литовец, уже отбывший свою ссылку. Бежали они по мало
посещаемому тракту через Илимский край. Тайну побега удалось сохранить в
течение 3-4 дней, и побег удался. В результате, по подозрению, арестован был
Микша и выслан в Якутскую область на 3 года. Вслед за этим произошел ряд
столкновений с грубым надзирателем, который вместе с полицейским приставом
врывался по вечерам в квартиры ссыльных для контроля. Одно из этих столкновений
окончилось избиением в глухом переулке надзирателя (без свидетелей). Обычно же
ссыльные подавали формальные жалобы на местную полицию по всем инстанциям,
вплоть до генерал-губернатора, и тем поддерживали свою репутацию «беспокойных».
В январе 1904 года в связи с началом Русско-Японской войны, была объявлена по
всей ссылке — под расписку, каждому ссыльному «высочайшая телеграмма» с
предложением «загладить свою вину перед престолом» путем добровольного
зачисления в ряды действующей армии в Манчжурии, с последующей ликвидацией
наказания.
Это предложение вызвало повсеместно отказ,
и кроме того демонстративные письменные заявления по инстанциям с мотивировкой
отказа, составленной, конечно, в резких выражениях. Проделано было это и в
колонии Усть-Кута и тоже было записано за счет «поведения» ссыльных.
Результатом этих столкновений — был арест
еще двух ссыльных — Баса и Гольдберга, которые были высланы зимой 1903-1904 г. —
в Верхоянск, Якутской области.
К весне 1904 г. репрессии и строгости
усилились. В Якутске разразилась «Романовская история», сопровождавшаяся
вооруженным столкновением с жертвами. Известие об этом быстро пронеслось по
всем колониям и вызвало ряд ответных событий, демонстративного характера
(подача заявлений о солидарности с Романовцами и пр.). В Усть-Куте усилились
свои репрессии; за знакомство и взаимные посещения местными крестьянами
ссыльных были составлены протоколы и возбуждено официальное дело о пропаганде
среди крестьян с направлением его к Иркутскому прокурору (прекращено лишь в
1905 г.). Подготовлялся новый побег нескольких лиц, были получены паспорта,
деньги и пр. Но весной, в апреле месяце, последовало новое распоряжение из
Иркутска, и в результате — последние остатки колоний в Усть-Куте были
ликвидированы — тов. Рузер, Китаев, Кириллов и Сысин были арестованы для
высылки в отдаленнейшую часть Якутской области. Арест выразился в двухнедельном
заключении в волостной тюрьме в Усть-Куте, а затем в пересылке по этапу (в
лодках по реке Лене) в Киренскую городскую тюрьму, где группа ждала более 6
недель очередной летней партии ссыльных, идущих из Александровской тюрьмы в
Якутскую область.
В самом начале июня прибыла в Киренск на
паузках эта партия и в тот же день, присоединив к себе киренских арестантов,
отбыла дальше в Якутск. В этой партии по дороге и произошла трагедия с
убийством офицера Сикорского.
В составе партии было более 100 человек
уголовных ссыльных, ехавших на отдельном паузке; затем партия политических
около 30 человек, и с ними около 6 человек сектантов-толстовцев, также на
отдельном паузке, и, наконец, третий паузок был офицерский, где помещался
конвойный начальник Сикорский, часть команды и продовольственный магазин.
Уже момент приема новых арестантов из
Киренской тюрьмы был характерен. Сикорский обратился к ним на «ты», с резкой
речью, что при первом же случае какого-либо недоразумения и недовольства — он
примет самые решительные меры, ни перед чем не останавливаясь. На паузке мы
узнали о всех предшествующих столкновениях, о которых так эпически рассказывает
обвинительный акт.
В Киренске же еще до нашего прибытия на
паузок была уже очередная история. Под видом случайной гибели (падение в воду и
ненахождение затем тела), бежал с паузка один ссыльный — студент Щепетов.
Атмосфера после этого вновь стала насыщенной; администрация подозревала побег и
искала виновных.
Через два дня около одного небольшого
селения (кажется Чечуйское), где жило несколько ссыльных, произошло следующее
столкновение. Пришедших к паузку ссыльных, хотевших передать некоторые
продукты, не пропустили к паузку; часть ссыльных соскочила по сходням на берег,
произошла свалка — избиение прикладами. Затем ссыльных загнали на паузок, и
Сикорский, лично распоряжавшийся сражением, открыл ружейную пальбу. Был дан
залп по толпе ссыльных, стоявших на носу паузка, — поверх голов; не хотели ли
солдаты стрелять в безоружных, или сам Сикорский так распорядился неизвестно.
Далее началась эпопея в связи с циничными
стремлениями Сикорского, который почти постоянно был пьяным и открыто торговал
водкой для арестантов, по отношению к политической ссыльной Р. Вейнерман.
Последняя, молодая девушка 18 лет, только что окончившая гимназию (если не
ошибаюсь в Вильно или Ковно), совершенно неожиданно для себя попала в ссылку.
Дочь богатых родителей из буржуазной, далекой от революции семьи, она «имела
несчастье» быть родственницей одной видной партийной работницы из Бунда. Эта
родственница была неуловима для местного охранного отделения, и в результате
последовал арест ни в чем неповинной Р. Вейнерман, якобы за укрывательство или
возможное содействие к укрывательству. И по своему настроению, и по воспитанию
Р. Вейнерман была тем случайным элементом в революции, который всегда знаменует
переход ее на массовое действие. Она была очень красива и, всегда веселая и
оживленная, легко переносила все невзгоды. В дальнейшем, вскоре по приезде в
Якутскую область, она была освобождена до срока, по ходатайству своих родных в
России и вернулась обратно.
Указанные в обвинительном акте факты, когда
Сикорский вызывал к себе на паузок Вейнерман, присылая для ее взятия солдат и
т. п., были настолько характерны, что даже конвойные понимали их истинную
подкладку, и события, имевшие место перед самой трагедией, были очень любопытны
для психологии самой стражи. Не доезжая Мачи, где имеется телеграф и живут
власти (пристав, мировой судья), ночью Сикорский потребовал к себе Вейнерман.
Ссыльные большей частью не спали, несли дежурство на случай столкновения, и
Вейнерман не была выдана, по единодушному согласию ссыльных. Приехавшие второй
раз (от паузка к паузку крейсировала в случае надобности лодка) солдаты с
паузка Сикорского были просто задержаны на паузке ссыльных, при их добровольном
согласии, ибо и для них была уже ясна их роль.
Не видя возвращения лодки, Сикорский
распорядился нагнать наш паузок, шедший впереди его паузка, и уже на расстоянии
было видно, как у него сели за весла солдаты и паузок быстро усилил свой ход.
Обычно паузки плывут просто по течению, без весел; последние применяются редко.
Немедленно и на нашем паузке сами ссыльные стали на весла, и пустынная река
Лена представляла в это раннее июньское утро любопытную картину — гонки двух
паузков. Паузок ссыльных имел преимущество — он был впереди; он сохранил это
преимущество в гонке и первым прибыл к Маче, где уже были как бы новые
«свидетели», а, следовательно, труднее распоряжаться бесконтрольно.
При помощи сектантов, которые имели доступ
и выход на берег — ссыльные, — во первых, послали по телеграфу длинную
телеграмму в Иркутск с изложением событий и требованием вмешательства, пока не
поздно (в дальнейшем выяснилось, что было уже «поздно»), и, во-вторых, сообщили
местному полицейскому приставу. Последний, скромного вида, седенький старичок,
приехал, опросил ссыльных и конвойных, побывал у Сикорского и, желая может быть
обезопасить и себя от крупной истории, обещал сопровождать партию в пределах
его участка.
Днем партия выехала дальше по Лене. Пристав
в своем «шитике» (особые крытые лодки), крейсировал около. Ссыльные несли
караул; не дождавшись никакого ответа из Иркутска, партия снова была отдана в
распоряжение Сикорского, вдали от всякой возможности куда-либо обратиться на
расстоянии 2000 верст от железной дороги, на пустынной реке, где селения и станции
попадаются лишь через 30-40 верст, где на сотни и тысячи верст идет необозримая
тайга.
Учитывая это, партия готовилась, как бы «к
бою». В качестве оружия был один браунинг, вывезенный еще из Александровской
тюрьмы, несколько финских ножей и только. Вспомогательными средствами намечался
в случае крайности поджог паузка, для чего имелся запас керосина. У женщин
ссыльных (их было 5-6) были заготовлены яды из нашей маленькой аптечки.
К вечеру кончился участок пристава, и он
уехал обратно. Партия пошла дальше, уже без всяких свидетелей. Партия была
довольно смешанного состава, и это обстоятельство привело к мысли у одной ее
части прибегнуть к террористическому акту убийству офицера. В этой группе
намечен был и исполнитель студент Томского Технологического Института, Марк
Минский.
Сама катастрофа разыгралась в ночь на 11
нюня, когда паузки остановились в безлюдной местности около лесистого берега за
селом Нахтуйским. Уже было совершенно светло, часа 4-5 утра, когда Сикорский
явился на паузок ссыльных.
Несмотря на ранний час он поднял всю
команду, и вооруженная с боевыми патронами, группа конвоя заняла по его
распоряжению носовую часть паузка ссыльных, перед входными дверями внутрь
паузка. Помещение внутри — это был обычный барак с двойными нарами; справа от
входа в верхнем отделении, за занавесками, помещались женщины. Сикорский одет
был в бурку, с револьвером, нагайкой, кинжалом и шашкой (см. обвинительный
акт). Построив солдат, он распорядился открыть дверь и вошел внутрь.
Ссыльные большей частью не спали, хотя
большинство лежало на нарах. В проходе около двери стояли несколько человек, в
том числе Минский. Выстрел был сделан почти тотчас после того, как вошел
Сикорский, который не успел сделать более 2-3 шагов. Прицел был взят
неправильно, и пуля вместо груди пошла выше и пробила шею. Идя по ходу между
шейными сосудами, она перерезала симпатический нерв, и это повлекло за собой
моментальную смерть.
Трудно сказать, что было бы, если рана не
была бы смертельной и Сикорский сохранил бы возможность командования. Очевидно,
последовал бы ряд новых жертв.
Выстрел и падение тела Сикорского вызвали
общее замешательство среди солдат. Так как унтер-офицер Компанец был отослан
предварительно на берег, как несочувствовавший намерениям офицера, то команда
осталась без начальства. Во всякой дисциплинированной воинской части чрезвычайно
важную роль играет «команда», — индивидуальные действия для солдат особенно
прежних выучек — являлись чем-то непривычным и непонятным. Произошло убийство
командира, что-то надо сделать, но что — неизвестно — начальства у команды нет.
В результате, при всеобщих криках и угрозах — разрозненные выстрелы на авось
внутрь паузка отдельных конвойных. Один выстрел ранил слегка Минского в ухо;
другой пробивает легкие и сердце тов. Шац (из Вильно — бундовец-наборщик).
Последний умирает через 2-3 минуты от внутреннего кровоизлияния.
Далее наступает неопределенное положение.
Все ссыльные как бы под арестом, их не выпускают выйти; конвойные грозят дальнейшими
расстрелами «всех без исключения», — чтобы «не быть в ответе». Но инициативы
расстрела никто на себя не берет.
Явившийся, наконец, унтер-офицер Компанец
вносит порядок. Сначала и он поддался общему настроению («расстрелять всех»);
вывел из паузка для политических всех сектантов и их семьи (были дети), как
неповинных в катастрофе, отвел в сторону паузок уголовных, собрал весь конвой
на берегу против нашего паузка. Видимость предстоящего «расстрела» была налицо.
Но до этого не дошло, ибо и ссыльные приняли своего рода меры пропаганды,
указывая на очевидные мотивы убийства, и сам Минский отдал свой револьвер, — и,
наконец, внес известное успокоение военный фельдшер из конвоя так сказать,
представитель свободной профессии среди солдат. Была дана телеграмма
соответствующим властям о происшедшем.
Власть явилась на другой день утром и
приступила к допросу. Минский принял на себя всю вину, указал, что это акт единоличный,
и акт самообороны; в показаниях свидетелей — всех нас — был подчеркнут инцидент
с Вейнерман и тот факт, что Сикорский был убит ночью около женского отделения,
куда он направлялся как бы с явной целью взять силой Вейнерман или вообще совершить какое то насилие над личностью ссыльных.
В исполнение обязанностей начальника конвоя
вступил новый офицер, приехавший из Якутска. Он не скрывал своего
отрицательного отношения к Сикорскому и почти открыто говорил, что иного выхода
не было. При этом он подчеркивал тот факт, что он кадровый офицер, а Сикорский
— случайно мобилизованный — во время войны человек (он был канцелярский
служащий на железной дороге).
По приезде в Якутск Минский был арестован и
отправлен в тюрьму, где как раз находились и все 33 ссыльных-романовцев,
ожидавших своего суда. Остальные ссыльные из партии были освобождены для
отправки затем по назначению дальше.
Но все эти истории и столкновения уже дали
свой результат — строгий режим все же был сорван; всем прибывшим предоставили
право самим выбрать себе места для жительства, часть даже была оставлена в
Якутске. Поэтому и вся Усть-Кутская колония не отправилась в «отдаленные места»
и получила назначение тут же вблизи Якутска.
Суд над Минским был в начале 1905 года;
судил Окружной Суд; в качестве защитника выступал прибывший специально из
Петербурга известный присяжный поверенный Переверзев, будущий министр в
министерстве Керенского. Суд вынес чрезвычайно характерное решение, может быть
своего рода единственное в этой области — оправдательный приговор. Убийство
было квалифицировано, как акт самообороны, как вынужденный акт. Не надо
забывать, что это были бурные месяцы нараставшей октябрьской революции 1905 г.,
и это обстоятельство, очевидно, сыграло доминирующую роль и в решении суда.
А. Сысин.
Приложение
Обвинительный акт об
административно-ссыльном из мешан г. Томска
Марке Наумовиче Минском.
11 июня 1904 года мировым судьей Олекминского
округа было получено сообщение о том. что в пределах его участка, в расстоянии
одной версты ниже села Нахтуйска, утром того же 11-го июня политический
ссыльный М. Н. Минский выстрелом из револьвера лишил жизни поручика Сикорского,
сопровождавшего в качестве начальника конвоя партию политических и уголовных
ссыльных, следовавших из Александровской пересыльной тюрьмы в пределы Якутской
области. По прибытии на место преступления мировой судья обнаружил следующее:
два паузка, на которых разместились отдельно политические и уголовные ссыльные,
и один офицерский паузок находились на расстоянии 3-х верст от с. Нахтуйского.
В паузке политических ссыльных в 35 вершках от порога входных дверей, внутри
паузка, возле нар, налево от входа против женского отделения, в полусидячем
положении, согнутом, с головой, опущенной к ногам, находился труп начальника
партии поручика Сикорского. Труп был одет в бурку, на голове была папаха, обут
в ботфорты, за правой голенищей которых оказался нож, а в правой опущенной руке
нагайка, на левом боку шашка, в кармане рейтуз был найден заряженный револьвер.
На полу под трупом большая лужа крови. При снятии одежды с трупа, верхняя часть
рубашки на спине была в крови и под рубашкой была найдена небольшая
револьверная пуля. При вскрытии трупа Сикорского были обнаружены на трупе
следующие повреждения: с правой стороны подбородка, на шее впереди
грудино-ключично-сосковой мышцы рана от пули, пробившей шейные сосуды, большого
калибра, и все шейные мышцы и вышедшей между лопатками по средней линии в
расстоянии от волосистой части головы 9 сант., при чем блуждающий нерв также
перерезан пулей. По заключению врача смерть последовала от паралича сердца,
вследствие нанесения безусловно смертельного повреждения пулей блуждающего
нерва, причем выстрел был произведен на расстоянии не более 2 шагов, когда
Сикорский стоял лицом к убийце, и сделан спереди назад. Обстоятельства, при
которых был убит поручик Сикорский, как это установлено показаниями свидетелей
Д. Брусова, М. Грузных и др., были таковы: 11-го июня рано утром, когда паузки
остановились в расстоянии одной версты от с. Нахтуйска, поручик Сикорский,
находясь в нетрезвом виде, приказал положить сходню на паузок, в котором
помещались политические ссыльные. Когда сходня была положена, Сикорский позвал
конвойных, пошел на паузок политических ссыльных; расставив конвойных 9 человек
в два ряда около дверей паузка, Сикорский приказал открыть дверь паузка и затем
вошел в паузок, но не успел Сикорский сделать двух-трех шагов во внутрь паузка,
как политический ссыльный Минский со словами: «вот тебе вся жизнь, довольно
тебе издеваться над нами» выстрелил в упор в начальника партии Сикорского, и
последний тут же пал мертвым. После этого двое из стоявших у дверей паузка,
солдат Брусов и Козлицкий, видя, что их начальник убит, выстрелили внутрь паузка,
при чем выстрелами этими был лишен жизни политический ссыльный Наум Шац и легко
ранен в ухо М. Минский. Когда солдаты начали стрелять, то Минский стал кричать,
что Сикорского убил он и что другие здесь не при чем. Допрошенный в качестве
свидетеля старший унтер-офицер Компанец показал, что 11-го июня утром начальник
партии Сикорский послал его, свидетеля, искать покупщика для продажи сухарей и
мяса с паузка. Когда он был в с. Нахтуйском, ему дали знать, что убит начальник
Сикорский. Прибежав к паузкам, он, Компанец, велел отцепить паузок
политических, предполагая, что солдаты будут стрелять; последние стали просить
не стрелять, а политический ссыльный Минский заявил, что он, М. Минский, застрелил
Сикорского, и передал Компанец револьвер. По осмотре револьвера таковой
оказался системы Браунинга, и пуля, найденная при трупе Сикорского, оказалась
подходящей к этому револьверу.
Привлеченный в качестве обвиняемого в
убийстве начальника партии поручика Сикорского, политический ссыльный Минский
признал факт лишения им жизни пор. Сикорского, объяснил, что сделал это с целью
самообороны, так как думал и был уверен, что
Сикорский пришел к политическим ссыльным с целью надругаться и опозорить их,
политических ссыльных; будучи глубоко уверен в этом, он, Минский, решил
убить Сикорского выстрелом из револьвера, случайно у него оказавшимся. Решение
это у него явилось в момент прихода Сикорского в паузок, револьвер у них,
политических ссыльных, был. Основанием к такой уверенности его, Минского, в
том, что Сикорский пришел на паузок с целью надругаться и опозорить их,
политических ссыльных, послужило следующее. Поручик Сикорский во все время пути
от с. Александровского до с. Нахтуйского, обращался с ними, политическими
ссыльными, скверным образом. В начале пути на первом дневном привале, где не
было приготовлено никакой провизии, Сикорский не пустил старосту партии
политических ссыльных в деревню за продуктами, ссылаясь на то, что в деревне
продуктов нет, между тем, как оказалось впоследствии, таковые были. На ночевке
в с. Московском им, политическим, не было отведено сразу помещение, тогда как
партия уголовных разместилась; политические ссыльные звали поручика Сикорского,
но он в этот день не пришел, а явился только на утро после того, как они
отказались ехать дальше; при этом Сикорский обещал приходить к ним,
политическим ссыльным, по их вызову и приготовлять на остановках провизию.
Последнее было исполнено, а первое нет. Дорогой, не стесняясь присутствием
женщин в партии, Сикорский бранился площадной бранью, и когда староста
политических М. Лурье заметил Сикорскому, что в присутствии женщин нельзя так
ругаться, Сикорский предложил заткнуть им уши ватой, говоря, что он действует
по инструкции, а ругает ямщиков и конвойных.
На ст. Усть-Ордынской во время дневной
остановки с политическим ссыльным Лурье сделался сердечный припадок;
политические ссыльные просили Сикорского оставить Лурье с конвойными в деревне,
пока он не оправится, но Сикорский не только не хотел исполнить требования
политических, но даже запретил фельдшеру, сопровождавшему партию политических,
развязать ящик с лекарствами и дать больному лекарства. После лишь требования
политических ссыльных составить об этом протокол, лекарство хотя и было выдано
больному, но последний был положен на телегу и рысью повезен вперед. В с.
Манзурке партия политических ссыльных потребовала свидания с товарищами,
проживающими там; на этой почве произошло столкновение, кончившееся тем, что
политических ссыльных, привязанных к телегам, повезли дальше. От с. Манзурки до
с. Качуга особых столкновений не было; политические ссыльные прекратили с
Сикорским всякие сношения, а он старался в свою очередь плыть от паузков
политических на 3-4 версты вперед. Недалеко от Киренска в ночь с 1-го на 2-ое
июня, когда вследствие густого тумана паузки стояли возле берега, утонул один
политический ссыльный Александр Щепетов. Узнав об этом, Сикорский вышел на
берег, а политическим и уголовным ссыльным велел выйти на крыши паузков и
приказал старшему унтер-офицеру считать ссыльных, сам же стоял на берегу,
бранило: и угрожал высечь и заковать в кандалы. Затем Сикорский велел всем
политическим сойти на берег, а сам пошел обыскивать паузок. После этого случая,
по распоряжению Сикорского, паузки запирались на замок днем и ночью. В селе
Чечуйске после столкновения из-за свидания, кончившегося тем, что их,
политических ссыльных, избили прикладами, пор. Сикорский сначала вызвал к себе
на паузок старост партии Лурье и С. Луцкину, а
затем политического Решетова. Вышеуказанным лицам Сикорский делал замечания,
при этом ругайся и глумился над ними. Отпустив их на паузок, Сикорский вызвал к
себе политическую ссыльную Р. Вейнерман, которой велел войти в его, Сикорского,
комнату, заперев дверь на крючок, замотав его веревочкой, а снаружи поставил
конвойного; затем, предлагая разные угощении, сделал ей гнусное предложение, и
Вейнерман спаслась от насилия только бегством. Дня через два, ночью, Сикорский
прислал со своего паузка на паузок политических ссыльных двух солдат Полканова
и Борзова с требованием привести к нему Вейнерман, а в случае сопротивления
пустить в ход приклады и штыки, не останавливаясь перед убийством. Старший
унтер-офицер Компанец отказался выдать Вейнерман и отослал солдат обратно, тем
не менее они снова вернулись с теми же приказаниями, но Компанец оставил их на
паузке. Ночью 10-го июня Сикорский с фельдшером приплыл на политический паузок,
обошел его и, не заходя внутрь его, уехал обратно. На следующую ночь, в 3½ часа
ночи, Сикорский снова явился на паузок, политических ссыльных; он, Минский, не
спал эту ночь, как не спал в другие ночи; сидя за столом внутри паузка, он
услышал на берегу голос Сикорского, последний позвал конвойных солдат на паузок
политических, велел открыть двери паузка. Тогда он, Минский, разбудил некоторых
товарищей. Вскоре открылась дверь и в дверях паузка показался Сикорский,
который, не говоря ни слова, вошел в паузок. В это время М. Минский стоял около
женского отделения. Допустив Сикорского на два-три шага к себе, он, Минский,
сделал шаг вперед и выстрелил в упор в Сикорского. Эти объяснения обвиняемого,
как относительно столкновений, имевших место в пути партии политических
ссыльных, так и обстоятельств, при которых состоялось убийство Сикорского,
подтверждены на предварительном следствии показаниями допрошенных свидетелей:
Алексея Сысина, Леона Рузера, Р. Вейнерман, Абрама Васкина,
Лейбы Либермана и других.
Допросом свидетеля П. Чернина установлено
следующее обстоятельство: когда паузки причалили к берегу близ Нахтуйска, то
политический ссыльный Минский ходил по крыше паузка и минут за 20 до прихода
Сикорского на паузок политических ссыльных Минский ушел с крыши паузка, при
чем, по словам свидетеля, Минский ушел с крыши паузка в тот момент, когда
показался из своего паузка Сикорский.
На основании всего вышеизложенного, политический
ссыльный Марк Наумович Минский, 23 лет, обвиняется в том, что 11 июня 1904
года, рано утром во время остановки близ с. Нахтуйска Олекминского округа,
следовавшей из с. Александровска в Якутскую область партии политических
ссыльных и уголовных под начальством Н. А. Сикорского, умышленно лишил жизни
последнего выстрелом в него в упор из револьвера, когда Сикорский вошел в
паузок, в котором помещались политические ссыльные, в том числе и Минский, т.-е.
в преступлении, предусмотренном в 1-ой и 3-ей части 1453 ст. уложения о
наказаниях, вследствие чего и на основании 1260 ст. Уст. Угол. Суд., М. Минский
подлежит суду Якутского окружного суда. Составлен 23 октября 1904 г. в г.
Якутске.
Подлинный
подписал прокурор суда Гречин.
/Каторга и Ссылка.
Историко-Революционный Вестник. Кн. 13. № 6. Москва. 1924. С. 190-199./
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
(Якутское восстание ссыльных 1904 года)
Во время пребывания романовцев в тюрьме, в
мае 1904 г., произошло еще одно важное событие, потрясшее всю политическую
ссылку. Под Нахтуйском, на пути следования к Олекминску, на паузке, везшей
политическую партию, офицер конвоя хотел пройти ночью в отделение, где
помещались женщины. На пороге его встретил студент Минский, староста партии, и
предложил немедленно удалиться. Офицер нахально пролагал себе дорогу, и был
наповал убит тов. Минским. Открывший беспорядочную стрельбу конвой убил одного
из политических ссыльных, тов. Каца, и ранил в
ухо тов. Минского.
Ожидалось прибытие в Якутск партии тов.
Минского и, как следовало ожидать, администрация желала тихонько высадить
партию, не допустив демонстративной встречи партии ссыльными, и доставить тов.
Минского непосредственно в тюрьму.
Предстояло обойти администрацию, и
встретить партию во что бы то ни стало.
Заготовив красные флаги и предусмотрительно
спрятав их по карманам, чтобы затем вовремя навязать их на палки, мы поздно
ночью группой человек в 20 вышли в поле к пустынному берегу Лены. Было еще
очень холодно по ночам, и мы порядочно прозябли за долгие часы ночи, согреваясь
у небольшого костра и весело проводя время за рассказами, шутками и остротами.
В нашей среде были пришельцы из самых далеких улусов, ближайшая ссылка,
славившаяся своими необычайно крепкими мускулами в тюремных стычках и уменьем
одним махом вышибать двери камер при протестах и голодовках — Абрам Моисеевич
Гинзбург, испытанный работник Бунда, Моисей Наумович Гальперин (Душкан), трое
«резервистов-романовцев», как нас стали называть, и многие другие.
Расставленные на дороге часовые донесли на
рассвете, что пароход с паузком на буксире показался уже на
сравнительно-близком расстоянии. Сохраняя все предосторожности, мы продвинулись
в рассыпную вперед и прилегли на берегу в ожидании парохода. На заре ясно
обрисовался медленно подходящий пароход. Мы жадно впились глазами в паузок, на
палубе которого одиноко маячили одна-две фигуры. То был такой же дозор, как и
наши сторожевые посты. Через несколько минут, когда паузок был уже на близком
расстоянии от берега, палуба наполнилась товарищами, окруженными строем солдат.
Мы быстро построились на берегу, выкинув
свое знамя с рельефной надписью «долой самодержавие». Раздались взаимные
приветствия, загремела «Варшавянка», подхваченная голосами на паузке. И только
когда взошло яркое солнце, бросая снопы золота на неподвижную гладь реки, из
города заспешил к нам навстречу отряд казаков с шашками наголо под предводительством
полицеймейстера Березкина. Он, видимо, напрягал все силы, чтобы предотвратить
нашу встречу с приехавшей партией.
Приблизившись к нам, рассмотрев воочию две
приветствовавшие друг друга группы, сливавшиеся в одном протестующем гимне,
полицеймейстер Березкин совершенно растерялся. Он пробовал кричать охрипшим от
напряжения голосом: «Отдайте мне флаг!», «Прекратите пение!», «Я буду
стрелять!», но голос его звучал беспомощно-жалко под гулом оживленного хора. Он
протянул было руку, чтобы вырвать знамя, но отказался от этой попытки, ибо
знамя было в очень надежных руках Абраама Мойсеевича Гинзбурга, казавшегося
гигантски-сильным по сравнению с обезумевшим от страха полицеймейстером. Фигура
последнего являла самое смешное зрелище. Потерявший
от страха голос, бледный до синевы, почти дрожавший за стеною сгрудившихся
вокруг него ружей и штыков, он наступал, скорее готовый к отступлению, на
группу невооруженных людей, забывших о всякой опасности в своем революционном
порыве. Каким-то воплощением вооруженного до зубов самодержавия, колеблющегося
на стальных штыках, казался нам этот трусливый ставленник власти, явившийся на
борьбу с нами. И вдруг положение неожиданно обострилось. По какому-то
знаку Березкина конвой на паузке окружил группу наших товарищей, угрожающе
направив на них ружья, взятые на прицел. Такой же угрожающий жест привел в
движение ружья стоявших впереди нас казаков. Смертельно-бледный полицеймейстер
едва выговаривал слова команды. Солнце ярко заблистало на засверкавших штыках и
заставило меня невольно обернуться назад на нашу группу с мыслью о том, что я,
может быть, вижу всех товарищей в последний раз.
Необычайно-яркое, незабываемое зрелище
ударило меня по глазам. Залитая солнцем группа товарищей на пароходе, полная
экстаза наша собственная группа, застывшая в боевой готовности встретить смерть
с революционным гимном на устах, — все это было так необычайно красиво, что в
мозгу моем невольно мелькнула странная мысль: если все мы погибнем, никто
никогда не узнает, — как все это было бесконечно красиво.
Я оглянулась на полицеймейстера в тот
момент, когда он внезапно повернул свою армию назад, сделав знак пароходу об
отплытии назад. Он придумал в последнюю минуту обходное движение и направил
пароход, минуя пристань, к другому пункту, куда поспешили и мы, встретив партию
уже на пути к нашим квартирам. Товарища Минского ожидала достойная встреча со
стороны романовцев в тюрьме...
М. С. Зеликман
/Из эпохи борьбы с
царизмом. Киевское отделение Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.
Сборник редактировали Л. Берман, Б. Лагунов, С. Ушерович. Киев. 1924. С. 30-32./
М. М-ский.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ССЫЛКА ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1904-1905 ГОДАХ
В 1904-1905 годы якутская ссылка, как и вся
Россия, переживала революционный подъем. Тяжелый, гнетущий режим Кутайсова
окончился Романовским протестом, многочисленными заявлениями ссыльных о
солидарности с ним и убийством конвойного офицера Сикорского. В самом Якутске
летом 1904 года политическими ссыльными были устроены две демонстрации. Одна —
21 июня при встрече первой летней партии, другая — 23 августа по поводу
проводов романовцев.
Напуганная администрация, от исправника и
до губернатора Булатова, старается не ссориться с ссыльными и по возможности
смягчает циркуляры Кутайсова. Учащаются отлучки с мест водворения, и
администрация вместо того, чтобы, как это было раньше, принуждать товарищей
вернуться обратно на место назначения, ограничивается строгими предписаниями, не
пытаясь приводить их в исполнение.
Материалы якутского областного управления,
сделавшиеся после Февральской революции доступными для изучения, изобилуют
чрезвычайно характерной для того времени перепиской губернатора со своими
подчиненными. На предложение якутского исправника установить такой порядок, при
котором каждому прибывшему из улуса в Якутск политическому ссыльному посылалась
бы повестка с предложением в четырехдневный срок оставить Якутск, а в случае
невыполнения приказа таких ссыльных арестовывать и высылать под конвоем на
место назначения [*
Пз статьи В. Б. — Якутская политическая ссылка. 1904-1905 г.г. Журнал «По
заветам Ильича» № 10-11.], — якутский губернатор Булатов отвечает, что
он «не только не признал возможным одобрить такие меры и допустить дальнейшее
их исполнение, но должен выразить вам (исправнику) по следующим причинам свое
крайнее неудовольствие, во-первых, за бестактность в сношениях ваших с
поднадзорными, могущую повести к нежелательным осложнениям... и, наконец,
в-третьих, за угрозу поднадзорным принять против них принудительные меры
выдворения вроде заключения на место водворения, к принятию каковой, крайне суровой
и никакими обстоятельствами не вызывающейся, меры нет решительно никаких
оснований».
Подобный ответ губернатора был совершенно
немыслим в 1903-1904 годах до Романовской истории. Напротив, за каждую отлучку
администрация применяла самые строгие взыскания и не останавливалась перед
арестом и высылкой.
Растерянность администрации дошла до того,
что исправник, в виду отсутствия в улусах заработков, предлагал ссыльным обращаться
к губернатору с ходатайством об оставлении их в г. Якутске. Когда же ссыльные
отказывались возбуждать подобные ходатайства, то исправник сам подавал
губернатору рапорты о переводе ссыльных. Губернатор со своей стороны возбуждал такое
ходатайство перед генерал-губернатором, а ссыльным объявлялось, что до
получения ответа им разрешается жить в Якутске.
Растерянность администрации дезорганизовала
надзор за ссыльными, что сделало возможным в течение 1904 и 1905 годов устроить
несколько удачных побегов из Якутска и др. мест. В это время бежали: с.-д. М.
Лурье (Ю. Ларин), Ив. Теодорович, М С. Урицкий, А. Гинзбург, М. Я. Вайнштейн,
Ив. Ив. Радченко, Л. Канцель и А. Краснянская; с.-р. Крейнерт и др. Побеги
обычно происходили на пароходах. В устройстве их большое участие принимали
политкаторжане Горинович и шлиссельбуржец М. И. Шебалин, которые в эти годы
служили на пароходах Громова. Обычно бежавший сговаривался с товарищем,
возвращающимся из ссылки, который и оказывал ему необходимое содействие в
дороге.
Интересный побег был Абрама Гинзбурга. Он
бежал в начале 1905 года. Ехал он в качестве купца, вместе с возвращающимся из
Н.-Колымска тов. Б. М. Вольфсоном. Предварительно были изучены условия проезда
через первую станцию, где обычно проверялись паспорта. По нашим сведениям,
писарь станции должен был сообщать о всех проезжающих. Из Якутска Вольфсон и
Гинзбург, в сопровождении пишущего эти строки, выехали на наемных лошадях.
Ямщиком был один из политических ссыльных — крестьянин, не помню сейчас его
фамилии. По своему виду, костюму и обхождению с лошадьми трудно было
заподозрить в нем политического ссыльного. На станции Гинзбург держался
отдельно от нас, изображая купца. Мы хорошо угостили писаря водкой, дали щедро
на чай ямщику из Якутска, что было необходимо, чтобы ехать без задержек.
Кажется, все было сделано так, чтобы не возбуждать подозрения, и нам казалось,
что мы достигли этого. Однако, когда товарищи уехали, и я вернулся, чтобы
проститься и ехать обратно, писарь спросил меня: «а этот большой-то из ваших —
государственный?». Мне пришлось разубеждать его и снова хорошо выпить с ним.
Между нами установились добрые отношения, чем и можно объяснить то, что он
нарушил приказ начальства и не сообщил о побеге. Товарищи развили небывалую
скорость и на 13 день были в Иркутске, а приблизительно в конце апреля якутская
администрация узнала о побеге, о чем мы сами поставили ее в известность, так
как боялись, что если бы побег открылся позже, то поиски тов. Гинзбурга могли
бы повредить товарищам, собиравшимся бежать в течение лета.
Среди побегов летом 1905 года был очень интересный
побег двух товарищей из Вилюйска; к сожалению, я не помню их фамилий. Они с
большими трудностями дошли пешком почти до Витима и здесь были случайно пойманы
стражниками, которые разыскивали кого-то из бежавших в это время из Якутска.
Если я не ошибаюсь, с.-р. Крейнерт пешком
прошел из Якутска в Иркутск. Его путешествие продолжалось несколько месяцев. За
это время он так огрубел, оброс и оборвался, что производил впечатление бродяги
и был совершенно неузнаваем. В Иркутске у него не было никаких явок. Только
случайно он встретил на улице тов. Е. Гиршфельд, которая свела его с местной
с.-р. организацией и помогла выехать из Иркутска.
Большое впечатление на ссылку произвел манифест
11 августа 1904 года по случаю рождения наследника. В своем манифесте царь
давал амнистию только тем ссыльным, которые отличались хорошим поведением. В
переводе на простой язык это означало, что амнистии подлежали те, кто не
участвовал ни в каких протестах.
Такое разделение на хороших и плохих
вызвало резкие протесты со стороны большинства ссыльных. В своих протестах с
многочисленными подписями товарищи заявляли администрации, что они и в ссылке,
как и на воле, продолжают бороться против самодержавия и отказываются от
царской милости. После таких заявлений администрация не пыталась делить
ссыльных на «овец и козлищ», и амнистия была применена ко всем одинаково. Срок
высылки был сокращен на ⅓, а
несовершеннолетние, как мы называли их тогда — «малолетки», были совершенно
освобождены от ссылки. По манифесту значительная часть товарищей вернулась на
родину.
Интересы ссыльных были всецело связаны с
революционной борьбой на родине. Все теоретические и практические споры,
происходившие на воле среди революционеров, находили свое отражение и в ссылке.
Наибольшие разногласия были между соц.-демократами и соц.-революционерами.
Вопросы террористической борьбы, отношения к крестьянству — все это являлось
предметом дискуссий среди ссыльных. К этим дискуссиям присоединялись споры по
вопросам борьбы в ссылке. Хотя это и не вытекало из идеологии с.-р., но
получилось так, что с.-р., во главе со старыми народовольцами, оказались на
стороне противников борьбы в ссылке, и только отдельные лица присоединялись к
протестам.
В противоположность с.-р., соц.-дем., за
небольшими исключениями» признавали эту борьбу. Этот вопрос еще больше
разъединил ссыльных. В особенно острые моменты споры достигали такого напряжения,
что многие товарищи как с той, так и с другой стороны прекращали даже всякое
личное общение, относясь друг к другу как к врагу.
Среди социал-демократов наметились
расхождения по линии большевизма и меньшевизма. Эти разногласия носили в то
время теоретический характер и еще не приняли таких резких форм, в какие они
вылились впоследствии, и обе группы мирно жили друг с другом.
Помимо дискуссий издавались журналы:
«Вестник Ссылки» группой социал-демократов, признающих борьбу в ссылке, и
«Летучий Листок» группой противников борьбы, подписывавшейся «группа
политических ссыльных». Если память мне не изменяет, во главе этой группы
стояли С. Трусевич, Константинов и др. противники борьбы в ссылке.
Группа «Вестника Ссылки» в июле 1904 года
разослала по всем колониям Якутской области проспект, в котором так формулировала
задачи и программу журнала [* Из статьи А. Кержинца в ж. «Сибирские Огни» № 3.]:
1) Знакомить ссыльных с интересными
теоретическими положениями по вопросам, волнующим соц.-демократию; для этого
редакция будет помещать в своем органе как перепечатки из с.-д. изданий, так и
оригинальные статьи. Что касается перепечаток, то в виду того, что «Вестник
Ссылки» не является фракционным изданием, — редакция обещает брать материалы
как из «Искры» и других изданий РСДРП, так и из изданий Бунда, П.С.Д. и прочих
социально-демократических организаций.
2) Знакомить ссыльных с наиболее
интересными актами революционной борьбы в России и в Западной Европе, пользуясь
для этого материалами нелегальных изданий, частных писем и т. д.
3) Открыть дискуссию по вопросам борьбы в
ссылке. В этом отделе редакция обещает предоставить возможность высказаться
всем мнениям — как сторонникам, так и противникам борьбы в ссылке. Кроме того,
в этот отдел должны войти статьи и сообщения по вопросам о жизни ссыльных и их
потребностях.
«Вестник Ссылки» вышел в числе 6-7 номеров;
он издавался в Чурапче [* Селение в 12-ти верстах от Якутска.], в квартире тов. А.
Гинзбурга и выходил в виде небольших гектографированных тетрадей размером до
полупечатного листа. Редакторами были: Абрам Гинзбург (Г. Наумов), Борис Цетлин
(Батурский — ныне умерший), Н. Л. Мещеряков и впоследствии присоединился Моисей
Гальперин (Марк Душкан). Редакция выполнила свои обещания и поместила ряд статей
по самым разнообразным вопросам. Вот краткий перечень их:
1) По поводу одного процесса (переп. из №
64 «Искры»). 2) Последствия реакции (об убийстве мин. вн. дел Плеве). 3)
Медовый месяц русского либерализма. 4) Потуги бессилия (но поводу брошюры «Программа
партии соц.-рев.»). 5) Конференция грузинских рев. фракций, 6) VI международный
социалистический конгресс в Амстердаме. 7) Резолюции амстердамского конгресса о
трестах и всеобщей стачке и лионского конгресса соц. партии Франции о всеобщей
стачке. 8) Мытарства первой летней партии политических ссыльных в пути от
Александровска до Якутска. 9) Борьба в ссылке. 10) Но поводу царского манифеста
(о необходимости коллективных протестов против манифеста 11 августа) и еще мн.
др. статей.
Журнал «Летучий Листок» являлся органом
группы с.-д. — противников борьбы в ссылке. Он проводил мысль, что ссыльные,
попавшие в ссылку, должны сохранять свои силы для борьбы на воле и не
растрачивать их в борьбе за улучшение своего положения. «Летучий Листок» был
против Романовки. По поводу манифеста 11 августа им было выпущено воззвание, в
котором говорилось: «Им (нашим товарищам) нет дела до той иезуитской
классификация революционеров на лиц «доброго поведения» и «не доброго». Уж
слишком наивна эта попытка классификации, чтобы кого-нибудь из нас оскорбить
или вынудить к громким заявлениям о своей политической неблагонадежности... Для
революционера дело не в том, чтобы убедить правительство в своем персональном
неподданстве ему, а в том, чтобы беспрерывно уменьшать количество его
подданных» («Искра» № 28)... «Правительство узнает нас только по деятельности
среди пролетариата, пробуждение которого ему так страшно, а выступление и смешной
роли гоголевских Ив. Ив. Добчинских нам не пристало». С этими, явно
деморализующими ссылку, идеями «Вестник Ссылки» вел самую жестокую борьбу.
Ссылка для большинства товарищей являлась
своеобразным университетом, храмом науки, в котором самым усиленным образом
изучалась теория и практика русского и западно-европейского революционного
движения. В ряде кружков под руководством старших товарищей изучали «Капитал»
Маркса, читали Каутского, Энгельса, Плеханова, Ленина и др. идеологов
социализма. Товарищи не теряли даром своего времени и спешили пополнить свои
знания, что им с трудом удавалось делать на воле в атмосфере повседневной
борьбы.
Своей борьбой и жизнью ссыльные оказывали
большое влияние на местную молодежь. Можно без преувеличения сказать, что
ссыльные в Якутской области являлись единственной культурной средой, из которой
рекрутировались работники всяких экспедиций, исследований, учителя для частных
уроков (в школах ссыльным не разрешалось преподавать) и пр. Среди молодежи
существовало несколько нелегальных кружков, в которых ссыльные вели пропаганду.
Результаты этой работы ссыльных особенно сильно сказались во время революции
1905 года, когда под влиянием распропагандированных местных граждан и учащихся
создалось большое (в якутском масштабе) национальное движение среди забитого
якутского туземного населения, а местные приленские крестьяне-ямщики устроили
забастовку, требуя от администрации оплаты за содержание ямских лошадей.
Национальное якутское движение вылилось в
форме «Союза Якутов», во главе которого стояли В. В. Никифоров, Поликарп
Слепцов, Илья Говоров и др.
По делу о забастовке ямщиков привлекались
по 1 п. 125 и 3 п. 129 Ст. угол. улож. крестьяне Радионов, братья Ивановы,
братья Захаренко, Копылов А. Г. и др.
К осени 1905 года ссылка значительно
поредела. Новых ссыльных в Якутскую область не присылали, так как Сибирская
жел. дорога была занята перевозкой войск на японскую войну, и потому
политических ссыльных размещали в Архангельской, Вологодской и др. северных губерниях
России. Часть ссыльных за окончанием срока вернулась обратно в Россию, многие
бежали, затем осенью перед закрытием навигации по р. Лене администрация
перевела в Иркутск тех из ссыльных, срок ссылки которых оканчивался до конца
1905 года.
Быстро развивавшееся революционное движение
1905 года отражалось на настроениях ссыльных. Хотелось скорее бежать из ссылки,
чтобы примкнуть к общей борьбе рабочего класса. Под таким настроением проходил
весь 1905 год. С нетерпением ждали новых вестей из России и с неослабным
вниманием следили за развивающимися событиями. И вот во время такого состояния
22 октября пришла весть о революции в Петербурге.
Революция оказалась неожиданной не только
для политических ссыльных, которые имели постоянную переписку с оставшимися на
воле товарищами, но и для администрации. Последняя под влиянием начавшихся
митингов совершенно растерялась и не знала, что делать.
Митинги вначале устраивались в читальне
народной библиотеки, а затем под влиянием требований народа под митинги было
отведено помещение общественного собрания. На митингах разбирались самые
разнообразные вопросы и велась пропаганда социалистических и революционных
идей. Местные жители шли на митинги со своими нуждами общественного и личного
характера.
В это время создалось несколько союзов:
«Союз Якутов», союз приказчиков, союз мелких торговцев, чиновников и другие.
В якутском движении принимали большое
участие тов. Приютов, Сабунаев, Поликарп Слепцов, Ожигов и др.
Митинги нс удовлетворяли их организаторов,
и было решено захватить городское самоуправление. На одном из митингов была
выбрана делегация в думу с требованием передачи власти. Гласные думы, узнав о
решении митинга, разошлись до прихода делегации. При вторичном посещении были
приняты все меры к тому, чтобы гласные не разошлись. Делегация явилась в думу и
предложила, гласным сложить свои полномочия, последние не сопротивлялись и под
иронические насмешки собравшейся публики составили акт о своем отказе от своих
полномочий.
Предполагалось избрать новых гласных на
основе всеобщей подачи голосом, но с наступлением реакции революционное настроение
стало ослабевать, и якутянам так и не удалось осуществить намеченного решения.
В этом деле принимали участие Приютов, Сабунаев и Оленин.
Ссыльные потребовали от губернатора
немедленной выдачи прогонных денег для обратного проезда в Россию. В это время
в Якутске было свыше 70 человек политических ссыльных, в Якутском округе около
10 человек, в Вилюйске 2, в Олекминске 6 и в Верхоянске и Колымске свыше 10
человек. Для отправки сразу такого большого числа людей требовалась большая
сумма. В распоряжении губернатора не было таких денег, а Иркутск, растерявшийся
не меньше Якутска, не переводил просимых губернатором средств. Ссыльные,
несмотря на все увещания губернатора, требовали немедленной выдачи денег и
отправки их в Россию.
В начале ноября, вечером после митинга,
большая демонстрация из политссыльных и горожан направилась к дому губернатора,
кто-то из толпы бросил камнем в окно и разбил стекло. Это привело в панический
ужас губернатора и он на завтра же достал где-то денег и началась отправка политссыльных.
За небольшим исключением уехали почти все. В Якутске остались только те, кто
пустил крепкие корни на якутской почве.
Пребывание политссыльных не прошло
бесследно для Якутска. Выше уже говорилось об образовании в Якутске «Союза
Якутов», союза приказчиков и др. В течение 1906 и последующих годов учащаяся
молодежь образовывала много подпольных кружков; издавались нелегальные журналы:
с.-д. «Маяк», с.-р. «Светоч», «Луч», «Молодые Силы». Руководителями в этих
группах вначале были оставшиеся в Якутске политссыльные, но впоследствии
выдвинулись местные работники из среды учащихся: Вл. Чепалов, Сергей Головенко,
Молотилов, Н. Андреев. Б. Корякии, Лиза Лебедева, сестры М. и Л. Широковы и мн.
др.
Во время наступившей реакции жандармерия не
могла спокойно смотреть на разрастающееся революционное движение молодежи, и в
1908 году против «маяковцев» Чепалова, Желобцова и Васадзе было возбуждено
обвинение по 1 ч. 102 ст. уг. ул. за принадлежность к с.-д. партии. Однако
якутский окр. суд не нашел состава преступления в их деятельности, и все были
оправданы.
Не так благополучно окончилась история
группы «Молодые Силы», которая вела работу среди учащихся фельдшерской школы. В
1909 году эта организация была открыта. По этому делу учитель Андреев и ученица
фельдшерской школы Шахурдина были приговорены к году крепости.
/В якутской неволе. Из истории политической ссылки в Якутской области.
Сборник материалов и воспоминаний. Москва. 1927. С. 34-40./
*
М. Минский
ДРАМА НА ЛЕНЕ
С назначением Кутайсова
генерал-губернатором Восточной Сибири положение политических ссыльных резко
изменилось к худшему: запрещены были отлучки, встречи этапов, служба и просто
общение друг с другом. Шпионаж стал нестерпимым. По малейшему поводу, а часто и
без всякого повода, люди высылались в самые дикие, безлюдные углы и получали
удлинение сроков ссылки. Местное крестьянство натравлялось против ссыльных.
Такова была политика министра Плеве.
Ссылка заволновалась, начались протесты и
борьба за сохранение тех немногих «вольностей», которыми пользовались ссыльные
до Кутайсова. Одним из наиболее ярких протестов был знаменитый «Романовский»,
всколыхнувший и ссылку, и каторгу. Администрация отовсюду получала заявления
ссыльных об их солидарности с «романовцами». Подали заявление и мы, сидевшие в
ожидании дальнейшего направления в Александровской пересыльной тюрьме (60 верст
от Иркутска).
Нас
было 32 чел.: 28 — мужчин и 6 — женщин. Здесь были представители почти всех
течений революционной мысли того времени. Соц.-дем. было 19 чел., с.-р. — 1
чел., бундовцев — 8 чел., и 7 чел., о партийной принадлежности которых у меня
нет сведений.
Иркутская администрация, желая предупредить
возможность столкновений в пути, накануне отправки нашей партии в Якутск,
перевела в иркутскую тюрьму нескольких товарищей: Лидию Канцель, Александра
Савинкова, Константина Попова и Анну Махлин.
Днем отъезда нашей партии было назначено 15
мая 1904 года. Большинство товарищей, в том числе и я, направлялись в Якутскую
область. С раннего утра тюрьма была па ногах. С нетерпением ожидали лошадей. У
всех было приподнятое, радостное настроение. Предстояла масса новых впечатлений.
Ведь большинство из товарищей просидело в тюрьме по многу месяцев. Одни строили
планы побега с дороги, другие стремились скорее прибыть на место, чтобы
отдохнуть от тюрьмы. В разгаре оживленных сборов на дворе тюрьмы появился
конвойный офицер Сикорский, назначенный для сопровождения нашей партии. Грубый,
неуравновешенный, постоянно пьяный, он был задет нашим невниманием к нему и
сразу же отдал резкое приказание конвойным пересмотреть все вещи и обыскать
нас. Такое требование шло вразрез с установившимися обычаями тюрьмы, и наш
староста Михаил Лурье (Ю. Ларин), от имени всей партии заявил, что мы
отказываемся ехать до отмены этого распоряжения. Опасаясь, чтобы нас не взяли
силой, мы быстро внесли в здание тюрьмы все вещи и забаррикадировались.
После недолгого сопротивления Сикорский
уступил нашим требованиям, и мы двинулись в путь. Мы ехали вместе с уголовными,
которых было 220 человек. Политическим были даны подводы, уголовные шли пешком.
Предстояло пройти около 350 верст до с. Качуга.
Согласно принятому решению, мы всюду
требовали свидания с живущими по дороге товарищами, на что нам отвечали
избиением, при чем офицер, всегда пьяный, с нагайкой в одной руке и револьвером
в другой поощрял солдат и десятских.
Сильному избиению мы подверглись в дер.
Усть-Ордынской, где с одним из наших товарищей М. Лурье сделался сердечный
припадок. На наши требования оставить товарища в деревне и предоставить ему
медицинскую помощь офицер ответил отказом и запретил ехавшему с нами фельдшеру
дать лекарство. Мы отказались ехать дальше, пока больной не оправится. Тогда
офицер отдал приказ взять нас силой. Нас оттеснили от больного, взвалили его на
телегу, а нас прикладами погнали вперед.
В селе Манзурке мы должны были получить
ответ па нашу телеграмму Кутайсову с требованием разрешить нам свидания с
живущими но пути нашего следования товарищами. Как и надо было ожидать,
никакого ответа не последовало. При попытке устроить свидание с местными
ссыльными мы подверглись сильному избиению. Солдаты и десятские, поощряемые
пьяным офицером, набросились на нас, и после короткого сопротивления, мы были
привязаны к телегам, и в таком положении нас повезли дальше. В знак протеста,
мы, лежа связанными, продолжали петь революционные песни.
Интересна психология солдат. Эти простые
русские крестьяне охотно слушали нашу агитацию и так же охотно исполняли наши
просьбы. С некоторыми из них у нас установились за время пути самые дружеские
отношения, благодаря чему нам удавалось посылать телеграммы и сносится с
товарищами, живущими по пути. И те же самые солдаты, по приказу пьяного
офицера, с остервенением избивали нас. Так сильно было в старом солдате
безрассудное повиновение приказу.
В селе Качуге партия была погружена на
паузки: на одном были политические, на двух уголовные и четвертый был занят
офицером и конвойной командой.
Паузки плыли вниз по течению реки. Чистый
воздух, суровая сибирская природа, могучая река Лена, со своими высокими
скалистыми берегами, как бы заключенная в каменный коридор, — все это
действовало на нас чрезвычайно хорошо и успокаивало наши истрепанные нервы.
Офицер боялся нас, и его паузок отставал от
нашего верст на 5-; это избавило нас от постоянных придирок с его стороны.
Паузки останавливались вдали от населенных мест, и мы лишены были возможности
видеть кого-либо из местных ссыльных.
Возле Верхоленска паузки остановились. Все
высыпали на берег. Солдаты цепью окружили нас.
Я и тов. Александр Щепетев (с.-р.) решили
бежать. Щепетев удачно скрылся за ближайшими кустами и остался на берегу. Мне
же не представилось такой возможности: когда я стал удаляться от цепи, солдат,
дежуривший на крыше паузка, заставил меня вернуться назад.
Запасшись провизией, паузки двинулись в
путь. Чтобы скрыть побег Щепетева, мы сделали чучело, положили его в
отгороженное простынями отделение для больных, и заявили товарищам, что Щепетев
болен. Старший солдат конвойной команды пересчитал нас, принял высунувшиеся из-под
простыни сапоги за ноги А. Щепетева и ушел, уверенный, что все обстоит
благополучно.
О
побеге знали только ближайшие товарищи, остальные даже не подозревали, что тов.
Щепетева давно нет и что из-под простыни торчат пустые сапоги.
Подъезжая к г. Киренску, «старший», обычно
проверявший нас, начал проявлять беспокойство и с большим вниманием
приглядываться к не подвижно торчащим ногам. По нашему расчету, тов. Щепетов уже должен был добраться до Иркутска и был вне
опасности. Чтобы не подвести солдат, надо было ликвидировать эту историю, при
чем все-таки так, чтобы побег не был открыт.
Мы
решили поставить «старшего» перед свершившимся фактом и тем заставить его принять
участие в сокрытии побега. Улучив удобный момент, я рассказал ему всю правду и
предложил устроить мнимое потопление Щепетева. Он сразу сообразил, что, если
побег откроется, то он первый будет в ответе, так как на нем лежала обязанность
ежедневно проверять политических. Он сразу согласился. В ближайшую ночь, когда
паузки, вследствие сильного тумана, остановились у берега, наш сообщник встал
на караул, а тов. Егор Решетов вынес большой камень и с шумом бросил его в воду
вместе с фуражкой тов. Щепетева. Караульный выстрелил и поднял тревогу. Все
выскочили. Кто-то из нас заявил, что нет тов. Щепетева, караульный сообщил, что
он видел, как кто-то из политических бросился в воду. Для всех неосведомленных
товарищей стало ясно, что это Щепетев решил покончить жизнь самоубийством.
Быстро снарядили лодки, и я вместе с
солдатами поехал разыскивать его тело. Неосведомленные о побеге Щепетева
товарищи очень волновались за его судьбу и тем еще больше увеличивали тревогу.
Уверенность в гибели Щепетева была в них так сильна, что, когда мы прекратили
поиски, многие стали упрекать нас в равнодушии, настаивая на дальнейших
розысках. Но в это время на берегу появился офицер, и нам некогда было вступать
в споры по этому вопросу. Поэтому я, быть может, не в очень парламентской форме
предложил спорщикам замолчать и не поднимать сейчас этого вопроса. Офицер, по
обыкновению пьяный, приказал солдатам прикладами выгнать нас на берег и
обыскать паузок. Все время, пока шел обыск, офицер не переставал ругаться самой
отборной бранью и грозил всех выпороть. Успокоился он только тогда, когда один
из солдат принес ему найденную в воде фуражку тов. Щепетева. «Собаке собачья
смерть», изрек этот дегенерат и отправился на свой паузок.
Утром мы были в г. Киренске, где хотели
сообщить прокурору о случившемся и о поведении офицера. Чтобы лишить нас
возможности сноситься с киренскими товарищами и властями, наш паузок был
остановлен на противоположном берегу. Сами власти не интересовались нашей
судьбой и не считали нужным приехать к нам и посмотреть, в каком состоянии
находятся ссыльные, несмотря на то, что вместе с уголовными нас было около 250
человек. Полная изолированность от внешнего мира, невозможность найти защиту ни
у местных, ни у центральных властей, бесконтрольное распоряжение нашей судьбой
со стороны конвойного офицера были характерны для отношений того времени к
ссыльным.
Случайно один из киренских товарищей забрел
к нам. Мы просили его поехать к прокурору, сообщить ему обо всем и просить его
приехать к нам. Как и следовало ожидать, прокурор не явился.
Новое столкновение произошло у нас 4 июня в
с. Чечуйском. Здесь высадилась ехавшая с нами тов. Е. Гиршфельд. Пока паузки
стояли, она побывала в селе и принесла нам кое-что из съестного. Офицер стал
кричать, чтобы ее не подпускали к нам. Мы бросились к ней навстречу. Солдаты
прикладами и штыками начали разгонять нас, требуя возвращения на паузок. Когда
мы взошли на паузок и, таким образом, ни для кого никакой опасности не
представляли, офицер отдал приказ стрелять по нас. Град пуль пронесся над
нашими головами. В этой схватке тов. Л. Либерман (Любимов) получил штыковую
рану в живот, а тов. Шинкаревская — в руку.
После этого офицер вызвал к себе на паузок
нашего старосту М. Лурье (Ю. Ларина), Т. Слуцкину и Е. Решетова. Осыпая их
потоком самой циничной ругани, он грозил заковать в кандалы, высечь и пр. Затем,
он вызвал к себе Ревекку Вайнерман. Вначале, повторив с ней ту же историю, что
и с первыми товарищами, он потребовал, чтобы она отдалась ему. Вырвавшись от
него, как показали на допросе солдаты, она хотела броситься в реку, но была
удержана ими. Солдаты привели ее всю в слезах к нам на паузок.
Боясь протеста с нашей стороны, офицер
приказал быстро отчалить от берега, и мы были вновь лишены возможности
прибегнуть к какой-либо помощи.
Этот случай заставил нас крепко задуматься,
а затем принять против офицера суровые меры: убить этого наглого развратника.
В обсуждении задуманного плана принимала
участие очень небольшая группа самых сплоченных тов.: М. Лурье, Наум Шац,
Татьяна Слуцкина, Егор Решетов и я. Все согласны были в том, что такая мера
будет не только актом самообороны, но и актом политическим. В нашем распоряжении
было только одно оружие — браунинг. Собираясь бежать из тюрьмы или с дороги, я
получил его от иркутских товарищей в Александровской тюрьме заделанным в
десятифунтовую коробку с печением Эйнем.
Мы не успели еще остановиться на способе
убийства, и не решили, кто из нас должен выполнить принятое решение, как
события стали быстро развиваться и привели нас к необходимости действовать
решительно.
В ночь на 7 июня к нам на паузок два раза
приезжали солдаты с требованием от офицера выдать ему Вайнерман. Мы заявили
унтер-офицеру, что пойдем на самые крайние меры, вплоть до сожжения паузка,
если он захочет взять Вайнерман силой.
И это были не слова!.. Мы не могли
допустить такого позора, чтобы ни наших глазах одного из наших товарищей взяли
бы для самого омерзительного надругательства. Это можно было бы сделать, лишь
подавив наше самое отчаянное сопротивление, и мы приготовились к нему.
Несколько товарищей — Этингоф, Аким Болотин и др. приготовили керосин, чтобы по
первому сигналу поджечь паузок сразу в нескольких местах. Такая мера явилась бы
актом отчаяния, но она диктовалась всеми теми условиями, в которых находилась
наша партия. Иного исхода в этот момент мы не видели.
Заметив наше возбужденное состояние,
старший на паузке, унтер-офицер Компанеец, отказался выдать тов. Вайнерман и
оставил присланных офицером солдат на паузке. Офицер не успокоился, и его
паузок начал нагонять нас. На его паузке усиленно гребли. Мы тоже налегли на
весла и всю ночь, до самого утра, происходила гонка двух паузков. Местные
жители, если бы они могли видеть эту странную картину погони одного паузка за
другим, были бы чрезвычайно удивлены. Ведь они привыкли, что паузки всегда
спокойно плыли по течению реки, а весла употреблялись на них только в
исключительных случаях.
Утром мы были в г. Витиме, откуда послали
срочную телеграмму министру внутренних дел с копией Кутайсову. Телеграмма была
подписана старостой М. Лурье и гласила, что поручик Сикорский издевается над
всеми, особенно женщинами, и требует от солдат, чтобы они силой привели к нему
политическую ссыльную Вайнерман. Мы предлагали министру обезопасить нас от
произвола офицера и заявляли, что, в случае малейшего проявления насилия с его
стороны, окажем самое отчаянное сопротивление.
По нашему совету унтер-офицер Компанеец
также послал телеграмму в Иркутск своему начальнику [* Офицер Сикорский был мобилизован из запаса.] с
сообщением о всем происшедшем.
Нашу телеграмму отнесла вольноследующая
Чагина-Суркевич.
В Витиме к нам на паузок, для принятия
уголовных, пришел местный пристав. Мы рассказали ему обо всем случившемся и
просили его о помощи. Это был первый представитель власти, внимательно
выслушавший нас. Наши рассказы о насилиях офицера и сообщение о посылке нами
телеграммы министру произвели на него большое впечатление, и он согласился
сопровождать нас на лодке до границы своего участка, дав телеграмму приставу
следующего участка, чтобы тот встретил нашу партию.
Впоследствии из материалов следствия я
узнал, что офицер еще до отъезда из Витима, получил запрос из Иркутска. Ответ
офицера был характерен для этого развращенного, вечно пьяного бурбона. Офицер
ответил, что политические женщины живут «коммунальным браком» со всеми
мужчинами партии, и что такой образ жизни их дурно влияет на его солдат.
Чтобы предупредить внезапное нападение, мы
установили бессменный караул из самых надежных товарищей. На мне, как на
помощнике старосты, лежала обязанность следить за караулом.
В ночь на 10 июня офицер, в сопровождении
фельдшера, неожиданно явился на паузок. Приказав запереть двери в наше
помещение, он прошел по крыше и, не заходя во внутрь, ушел обратно, посоветовав
унтер-офицеру не ссориться с ним.
Это посещение не предвещало ничего хорошего
и сильно встревожило нас. Мы усилили караул.
В ночь на 11 июня, когда мы стояли недалеко
от с. Нахтуйска, возле речи Мачи, я не спал,
неся ночной караул. Около трех часов, уже на рассвете, я услышал какой-то шум
на берегу и вышел на крышу. Пьяный офицер с руганью и криком «тревога»,
направлялся к нашему паузку. Появление его в такое время было необычно и можно
было ожидать нападения. Я вернулся назад, разбудил некоторых из товарищей и
вооружился револьвером. Двери на паузок были заперты. Офицер, узнав, что
Компанеец ушел в село, созвал солдат, расставил их возле дверей, велел зарядить
ружья и вошел во внутрь. Я стоял у женского отделения. Увидев офицера, я решил
воспользоваться таким удобным случаем и выполнить наше решение. Офицер с
нагайкой в руке медленно приближался ко мне. Не было сомнения, что он хотел,
придравшись к чему-нибудь, произвести избиение и взять к себе на паузок Р.
Вайнерман. Медлить было невозможно и потому, подпустив офицера на достаточно
близкое расстояние, я со словами: «Вот тебе, негодяй...», выстрелил, целясь в
лицо. Пуля удачно попала в шею и пробила сонную артерию. Офицер, не произнеся
ни слова, медленно опустился, как будто бы присел на пол.
Почти одновременно раздались два выстрела
со стороны солдат. Одним был убит Наум Шац, пуля другого ранила мне правое ухо
и застряла в люльке ребенка контрабандиста, ехавшего па нашем паузке.
Все совершилось так неожиданно, так быстро,
что многие товарищи далее не поняли, смысла происшедшего.
Наступил самый трудный и ответственный
момент. Надо было успокоить товарищей, а главное солдат. Волнение товарищей,
повскакавших с мест и метавшихся по паузку, еще больше усиливало беспокойство
солдат. Они при каждом приближении к ним вскидывали ружья и были готовы вновь
начать стрельбу. Почти силой и угрозами заставив всех убраться на нары, я
бросился к солдатам, умоляя их успокоиться, уверяя, что против них мы ничего не
имеем и не тронем их, и предлагая взять у меня револьвер. С большим трудом мне
удалось их несколько успокоить. В это время из села возвратился унтер-офицер
Компанеец.
Чтобы оправдать себя в глазах начальства,
он решает расстрелять нас. Солдаты заперли двери паузка; в одну минуту были
перерублены веревки, соединяющие наш паузок с паузком уголовных; солдаты
выстроились на берегу и приготовились стрелять.
Нельзя было терять ни одной минуты. Я
бросаюсь к окну, и которое с трудом можно просунуть голову и стараюсь успокоить
унтер-офицера. Предлагаю ему расстрелять меня одного, для чего обещаю выйти на
крышу паузка, лишь бы не губить ни в чем неповинных людей. Угрожаю ему тем, что
он будет отвечать за расстрел запертых в паузке людей. После долгих переговоров
мне, наконец, удалось уговорить его. Дрожа от страха, он подошел к нашей двери
вместе с сельским старостой. Я отдал ему револьвер, научил его, как действовать
дальше и составил ему телеграмму в Иркутск о случившемся.
Вскоре Компанеец вернулся и заявил, что
хочет поместить меня в сельское арестантское отделение. Я не возражал против того,
напротив, был рад, что останусь один, чтобы наедине пережить и передумать все,
что случилось за последние несколько дней и даже часов и минут.
Компанеец закрыл паузок и никого не
выпускал на палубу, несмотря па то, что на паузке были два трупа. Товарищи не
протестовали против этого, так как это распоряжение явилось результатом
растерянности Компанейца.
К счастью, взаперти пришлось сидеть
недолго. Через день после убийства из Киренска приехал другой офицер, Гойман,
присланный по приказу из Иркутска сменить Сикорского. Гойман был вежлив и
предупредителен. Двери паузка были открыты и товарищи выпущены на берег. Мне он
предложил вернуться нпаузок, но я предпочел пока остаться в одиночестве.
Через два дня из Якутска приехал
штабс-капитан Кудельский, руководитель расстрела романовцев. Вместе с ним
приехал следователь якутского окружного суда, и началось следствие.
Тело тов. Шаца было в лодке довезено до
Олекминска, где и было передано товарищам для погребения. Похороны были
совершены со всей торжественностью. Администрация не мешала этому.
С Наумом (Нафтолием) Шацем я впервые
встретился и очень близко сошелся в Александровской тюрьме. Он принадлежал к
группе «Искры» и шел в Якутскую область сроком на 4 года. После долгого сидения
в общей камере, мы отгородили простынями свои кровати и образовали подобие
комнаты. В этой импровизированной комнатке проводила время наша небольшая,
очень дружная компания, состоявшая из Наума Шаца, Евгении Гиршфельд,
Константина Попова, Льва Либермана и меня. Мы много читали, спорили и
занимались.
Н. Шац шел в ссылку с твердым намерением бежать.
Он очень страдал, что ему не удавалось бежать с дороги, и, помню, на каждом
ночлеге мы тщательно изучали с ним все возможности побега. Однако,
обстоятельства складывались неудачно, и ему так и не удалось осуществить своей
заветной мечты. Шальная пуля положила конец этой молодой жизни и вырвала из
рядов социал-демократии одного из лучших борцов за торжество рабочего класса.
В Олекминске к нам допустили местных
товарищей, и наш староста также ходил в город. Следствие велось в пути.
Следователь не старался давить на солдат, и они совершенно правильно обрисовали
отношение к нам офицера.
Якутская колония решила к нашему приезду
устроить демонстрацию протеста против режима Кутайсова. Уже задолго до прибытия
партии, товарищи начали стекаться в Якутск из ближайших улусов. Чтобы попасть в
Якутск, многие шли пешком по сто верст. На демонстрацию собралось 40 человек;
группа ссыльных, противников борьбы в ссылке, не примкнула к демонстрации.
Чтобы не дать администрации высадить партию, не доезжая Якутска, товарищи
направились за город и расположились лагерем на берегу реки. Им пришлось
прождать целые сутки. 21 июня мы увидели на берегу толпу людей, радостно
приветствующую нас пением революционных песен. К полдню мы были в городе.
Ссыльные расположились на крутом берегу, над обрывом. Со всех сторон их окружили
полиция и солдаты, готовые броситься на них по первому знаку и столкнуть всех
под откос, чтобы отомстить за убитых во время романовского протеста солдат.
Вдали собралась большая толпа горожан. При нашем приближении раздалось пение
«Варшавянки», и были подняты два знамени с надписями: па черном — «Светлой
памяти Юрия Матлахова [*
Юрий Матлахов был убит во время протеста «романовцев».] и Наума Шаца»,
на втором, красном — «Долой кутайсовские циркуляры». Мы собрались на крыше и
отвечали пением революционных песен.
Полицеймейстер Якутска, командовавший
приведенными казаками, бросился отнимать у демонстрантов знамена; однако
несмотря на отданный им приказ зарядить ружья, ему не удалось этого сделать.
Губернатор, сильно волнуясь и видимо не
решаясь на кровопролитие, после недолгих переговоров, согласился не задерживать
пашу партию в тюрьме и отпустить на волю.
Один я был посажен во временную тюрьму, так
как постоянная была вся занята романовцами, сидевшими там в ожидании суда.
Через неделю - две меня перевели к ним.
В конце октября следствие по моему делу
окончилось, и я был выпущен под залог.
По окончании следствия, 23 октября 1904
года мне было предъявлено обвинение по 1 и 3 части 1455 ст. Ул. о нак. в
убийстве поручика Сикорского с заранее обдуманным намерением. Обвинительный акт
был подписан прокурором суда Л. И. Гречиным.
ЦК Российской социал-демократической
рабочей партии организовал защиту на суде, и в Якутск был послан присяжный поверенный
П. Н. Переверзев. Временно до приезда П. Н. Переверзева мне предложил свои
услуги местный частный поверенным якут В. В. Никифоров.
Суд был назначен на 4 апреля 1905 года.
Передо мной и перед товарищами встал вопрос о том, как держаться на суде. Все
мы придавали суду большое политическое значение. В обсуждении этого вопроса
приняли участие: Константин Попов, Борис Цейтлин (Батурский, ныне умерший),
Николай Мещеряков и др. товарищи. Было решено остановиться в показаниях на суде
на общих условиях ссылки, указать, что протесты нашей партии явились не
случайными, а были направлены против общей политики ген.-губ. Кутайсова.
По тактическим соображениям, мы решили совершенно
умолчать о предварительном решении убить офицера, а также о побеге Щепетева.
С П.
Н. Пероверзевым нами был устроен ряд совещаний, на которых и была окончательно
установлена линия поведения на суде.
5 апреля начался суд без присяжных заседателей.
Председателем суда был Будзилевич, членами — Л. А. Соколов и В. А. Ревердато,
обвинял тов. прокурора Ревич.
Дело слушалось при закрытых дверях. В качестве родственников было разрешено
присутствовать на суде двум товарищам — Б. Цейтлину
и И. И. Радченко.
Свидетели обвинения, солдаты, не явились;
из свидетелей, выставленных мной, на суде были товарищи, ехавшие со мной в
одной партии: А. Сысин, А. Баскин, А. Бернштейн, Е. Решетов, Р. Рузер, И.
Китаев, С. Михлин, Е. Гиршфельд, Р. Шинкаревская, Е. Дашевский, А. Болотин, Б.
Розенфельд, С. Чижев, Я. Закон и Н. Лифшиц.
Во время моих показаний председатель
останавливал меня каждый раз, когда я касался политики правительства.
Допрос свидетелей длился полтора дня.
Оглашенные показания солдат подтвердили все то, что говорил я и мои товарищи.
Прокурор в своей речи пытался доказать, что
офицер обладал гуманными чувствами и что он не имел намерения изнасиловать
Вайнерман, а, напротив, был влюблен в нее, и мы напрасно поступили с ним так
жестоко.
Девятое января 1905 года и близость
революции заставили прокурора в конце речи позабыть о том, что он говорил в
начале, и он впал в лирический тон. Он начал говорить о том, что приближается
«новая эра», когда суду не придется судить таких людей, а, напротив,
преклоняться перед ними. Поэтому он предлагал суду обратиться па высочайшее имя
о моем помиловании, на что я ответил решительным отказом.
П. Н. Переверзев в своей речи заявил:
«От имени Минского я заявляю, что он убил
Сикорского вполне сознательно и хладнокровно. Ни о какой мести здесь не может
быть и речи. От имени Минского я заявляю, что он заранее отказывается от всякой
милости, откуда бы она ни шла, и если вы внемлете последнему слову прокурора,
которым он закончил свою речь, то вы только повредите подсудимому».
За недостатком места, я не могу изложить
сколько-нибудь полно очень яркую речь защитника. На ряде свидетельских
показаний солдат он показал, что я вынужден был так поступить и что убийство
произошло не «в запальчивости и раздражении», как объяснял прокурор, а вполне
сознательно.
Защитник устанавливал, что со стороны
офицера была несомненная попытка изнасиловать Вайнерман и что умозаключения
прокурора о дисциплине солдат и чистых намерениях Сикорского являются плодом
его фантазии.
Защитник закончил свою речь указанием на
отсутствие какой-либо возможности для нас обратиться к защите местных властей,
в связи с чем у нас не было иного выхода, как отвечать насилием на насилие.
После П. Н. Переверзева сказал небольшую
речь В. В. Никифоров.
В своем последнем слове я старался
показать, что история нашей партии была не случайной, что вся политика царского
правительства направлена к тому, чтобы всякое проявление революционного
движения подавлялось бы самым жестоким образом, а к отдельным революционерам
применялись самые суровые меры.
Председатель суда несколько раз
останавливал меня, тем не менее мне удалось сказать почти все, что я хотел. Мое
последнее слово сейчас же после суда было напечатано в «Вестнике Ссылки», в
номере от апреля 1905 г. Этот журнал издавался в Якутске группой ссыльных.
Суд признал, что я действовал в состоянии
самообороны и вынес оправдательный приговор.
Приговор был объявлен при открытых дверях и
встречен был публикой, наполнившей зал суда, с чрезвычайным восторгом. С пением
революционных песен все мы направились из суда в общую квартиру ссыльных.
Для нас ясно было, что такой неожиданно
благополучный исход процесса — полное оправдание вместо каторжных работ —
явился следствием паники, охватившей царское правительство после 9 января 1905
г., многочисленных забастовок, неудачной войны с Японией и близкого дыхания
революции.
Прокурор остался недоволен приговором и
подал кассационную жалобу в иркутскую судебную палату. Новый разбор дела был
назначен на 18 октября 1905 года. В эти дни Иркутск был охвачен революцией. На
улицах происходили схватки с «черной сотней»; я был начальником боевых дружин
г. Иркутска и на суд не явился. Только спустя много времени, я получил
известие, что дело рассмотрено и приговор якутского суда утвержден.
Приложение 1.
Последнее слово М. Минского.
5 и 6 апреля в якутском окружном суде
разбиралось дело товарища Марка Минского, убившего в ночь с 10 на 11 июня 1904
г. офицера Сикорского, пытавшегося изнасиловать одну из женщин, политических
ссыльных, во время следования партии из Александровской пересыльной тюрьмы в
Якутск. Дело разбиралось при закрытых дверях, и лишь приговор был объявлен при
открытых дверях. Минского защищал присяжн. поверен. Переверзев и местный
частный поверен. Никифоров (якут). Суд признал, что Минский убил Сикорского,
находясь в состоянии необходимой самообороны, и поэтому оправдал его. Ниже мы
приводим последнее слово, произнесенное товарищем Минским на суде. Произнести
всю эту речь целиком тов. Минскому не удалось, так как председатель несколько
раз его прерывал на том основании, что «это к делу не относится», и в
конце-концов М. пришлось отказаться от окончания своей речи. Тем не менее ему
удалось произнести самые важные части своего последнего слова и цель его была
достигнута.
-----
Г.г. судьи! В своих показаниях я старался
дать картину бесправия, которое окружало нас. Вы видели, что Сикорскому — этому
грубому, развратному бурбону, была вручена огромная партия политических
ссыльных. Высшее начальство, доверяя ему такое ответственное дело, не только не
справляется, что это за человек, но снабжает его особыми инструкциями. Эти
инструкции дают, по-видимому, в его руки огромные полномочия. Быть может, на
основании их он и грозил нам кандалами и поркой, быть может, они заранее
прощали ему его преступления, не даром же он так упорно добивался своего
желания — изнасиловать Вайнерман. Ведь он не оставил этой мысли даже после
того, как получил в Витиме запрос по поводу нашей телеграммы.
Все это с ужасающей ясностью показывает на
полнейшее бесправие русского гражданина. И такой, как Сикорский, не один, это
не исключение. Его поступок нельзя объяснить отдаленностью от центра России. Он
— родное детище русского самодержавия.
Русское самодержавие богато фактами самого
грубого насилия. Нам всем хорошо памятна история изнасилования в самом центре
России — в Петербурге — Ветровой, история изнасилования в Тихорецкой судебным
следователем Золтовой. И таких фактов каждый из нас, если пороется в своей
памяти, найдет очень много.
А порка? Разве чиновники когда-либо
останавливались перед этим? Вспомните, как на Каре драли политическую
заключенную Сигиду, после чего несколько ее товарищей покончили с собой.
Вспомните, как князь Оболенский драл крестьян после харьковских и полтавских
беспорядков, как фон-Валь и генерал Келлер драли демонстрантов, один в Вильно,
другой в Екатеринославе. Еще не сошло с газетных столбцов дело генерала
Ковалева, выпоровшего доктора Забусова. Драли, не разбирая ни чина, ни пола, ни
возраста. Россия — это огромная каталажка, в которой ежеминутно разыгрываются
дикие оргии произвола, в которой ни один обыватель не поручится, что он не
будет выдран, а жена и сестры его изнасилованы.
Сикорский имел перед собой много примеров
для подражания, и если бы сейчас вам не пришлось судить меня, этот факт канул
бы в вечность, а русское общество узнало бы о нем только из нелегальной
литературы, да какой-либо глухой заметки в легальных газетах.
Так самодержавие ведет борьбу за
существование. Как паразит, разъедая народное тело, оно старается подавить
всякие проблески сознания. Чтобы остановить грядущую революцию и затемнить
сознание народных масс, оно наполняет Россию полчищами шпионов и продажной
прессой, разжигает низменные инстинкты народа, натравляя одну национальность на
другую, устраивает ужасные еврейские погромы, подобные кишиневскому и
гомельскому, или резню, подобную недавней бакинской, наконец, затевает
кровопролитную войну на Дальнем Востоке, заливая поля Манчжурии народной
кровью.
Наряду с этим со страшной жестокостью
преследуются революционеры. Демонстранты-рабочие, студенты и даже дети
расстреливаются и избиваются на улицах городов. Тюрьмы и крепости заполняются.
Часто в них производятся страшные избиения заключенных. После долгого
заключения в самых ужасных условиях люди ссылаются без суда и следствия в
далекие российские и сибирские тундры. Но и здесь правительство не дает
спокойно жить своим «внутренним врагам». Отношение к ним тесно связано со всей
внутренней политикой правительства. И как в России политика «сердечного
попечения» сменяется необузданной реакцией, так и здесь, в ссылке, довольно
сносный режим сменяется страшными притеснениями. Нам пришлось ехать в самый
разгар Плеве-Кутайсовской реакции, и все притеснения, сыпавшиеся на ссыльных
вообще, сыпались и на нас, как из рога изобилия. Разнузданность
правительственных агентов доходила до ужасающих размеров. Сикорский явился
только порождением всего существующего строя. Не было, как вы видели, никаких
средств положить конец насилью с его стороны — никаких, кроме выстрела...
Разделяя целиком взгляды Росс. С.-Д.Р.П., в рядах которой я работал до ареста,
я являюсь принципиальным противником террора. В согласии с программой этой
партии я считаю освобождение России и уничтожение произвола администрации
возможным не помощью террористических актов, а путем долгой, планомерной борьбы
народных масс, последним актом которой явится народное восстание. И если в
данном случае прибегнул к помощи револьвера, то не потому, что хотел в лице
Сикорского поразить русское самодержавие, а потому, что это было единственное
средство оградить себя и товарищей от насилья и позора. И не под влиянием
аффекта или запальчивости, нет, я стрелял вполне сознательно, я знал, что
только такой отпор Сикорскому, облеченному неограниченной властью, избавить нас
от насилья...
От вас, г.г. судьи, я не жду оправдания!
Ваше оправдание будет равносильно обвинению вами правительства, которому вы
служите, в том, что оно дает власть такому человеку, как Сикорский. Но, с
другой стороны, осудив меня, вы признаете, что действия его были вполне
допустимы, что полный произвола и надругательства режим был режимом русского
правительства, вы признаете, что Сикорский был плоть от плоти и кость от кости
этого правительства — и тем самым вы запачкаете и все русское правительство той
грязью, какой покрыл себя Сикорский.
Только руководимый социал-демократией
пролетариат, который после долгого угнетения, после многочисленных расстрелов,
в своей борьбе за освобождение всего народа, быть может в этот момент, когда я
здесь говорю, разрушает последние остатки ненавистного ига, только он своим
мощным потоком снесет самодержавие и освободит Россию от произвола, а нас — ссыльных
и заключенных — от тюрем и ссылки!
Приложение 2.
Письмо
т. Шаца, написанное накануне убийства солдатами
во время столкновения с офицером Сикорским 11 нюня 1904 года.
Дорогие, вряд ли
увидимся. Почему? — очень много придется сказать. Сейчас же по приезде в
Якутск. — я вам напишу. В дороге пришлось много пережить. Страшно много было у
нас столкновений. Столкновения — кровавые. У нас есть один тяжело раненый. Ко
всему надо прибавить, что наш офицер самодур и нравственный урод. На днях в 3
ч. ночи он послал двух солдат «привести» ему одну из наших женщин и приказал в
случае нашего сопротивления взять ее силой, а нас бить прикладами. Его
требование не было исполнено, ибо солдаты отказались исполнить его приказание.
Мы послали об этом телеграфное заявление в Петербург и Иркутск. Теперь после
этого он немного присмирел. Подробно я напишу из Якутска. Горячо, горячо вас
целую.
Всем горячий привет.
Нафтоле
(Александр).
/В якутской неволе. Из истории политической ссылки в Якутской области.
Сборник материалов и воспоминаний. Москва. 1927. С. 162-174./
Г. Лурье
ЯКУТСКАЯ ССЫЛКА В ДЕВЯНОСТЫЕ И ДЕВЯТИСОТЫЕ
ГОДЫ
В мае 1904 г. по Лене следовала партия
ссыльных к Олекминску. Во главе конвоя стоял выродок-офицер Сикорский, который
задумал изнасиловать одну из ссыльных. Последние догадались об этом и
подготовились к отпору. Под Нахтуйском офицер попытался ночью пройти в
отделение на паузке, где помещались женщины. Его встретил студент М. Н.
Минский, социал-демократ, староста партии, и предложил немедленно удалиться.
Офицер нахально продолжал свой путь и был убит наповал выстрелом Минского.
Конвой открыл беспорядочную стрельбу и убил ссыльного Н. Шаца, но Минскому
удалось быстро прекратить стрельбу, убедив конвойных, что они должны только его
арестовать, как непосредственного убийцу.
О последовавшей затем демонстрации якутских
ссыльных расскажем словами М. С. Зеликман, активной участницы этой
демонстрации:
«Ожидалось прибытие в Якутск партии тов.
Минского, и, как следовало ожидать, администрация желала тихонько высадить
партию, не допустив демонстративной встречи партии с ссыльными, доставить тов.
Минского непосредственно в тюрьму.
Предстояло обойти администрацию и встретить
партию во что бы то ни стало.
Заготовив красные флаги, и
предусмотрительно спрятав их по карманам, чтобы затем во время навязать их на
палки, мы поздно ночью группой человек в 20 вышли в поле к пустынному берегу
Лены. Было еще очень холодно по ночам, и мы порядочно прозябли за долгие часы
ночи, согреваясь у небольшого костра и весело проводя время за рассказами,
шутками и остротами.
Расставленные на дороге часовые донесли на
рассвете, что пароход с паузком на буксире
показался уже на сравнительно близком расстоянии. Соблюдая все
предосторожности, мы продвинулись врассыпную вперед и прилегли на берегу в
ожидании парохода. На заре ясно обрисовался медленно подходящий пароход. Мы
жадно впились глазами в паузок, на палубе которого одиноко маячили одна-две
фигуры. То был такой же дозор, как и наши сторожевые посты. Через несколько
минут, когда паузок был уже на близком расстоянии от берега, палуба наполнилась
товарищами, окруженными строем солдат.
Мы быстро построились на берегу, выкинув
свое знамя с рельефной надписью «Долой самодержавие». Раздались взаимные
приветствия, загремела «варшавянка», подхваченная голосами на паузке. И только
когда взошло яркое солнце, бросая снопы золота на неподвижную гладь реки, из
города заспешил к нам навстречу отряд казаков с шашками наголо под
предводительством полицеймейстера Березкина...
Приблизившись к нам, рассмотрев воочию две
приветствовавшие друг друга группы, сливавшиеся в одном протестующем гимне,
полицеймейстер Березкин совершенно растерялся. Он пробовал кричать охрипшим от
напряжения голосом: «Отдайте нам флаг!», «Прекратите пение!», «Я буду
стрелять!», но голос его звучал беспомощно жалко под гул оживленного хора... Потерявший от страха голос, бледный до синевы, почти дрожавший за стеною сгрудившихся вокруг него
ружей и штыков, он наступал, скорее готовый к отступлению, на группу
невооруженных людей, забывших о всякой опасности в своем революционном
порыве... и вдруг положение неожиданно обострилось. По какому-то знаку
Березкина конвой на паузке окружил группу наших товарищей, угрожающе натравив
на них ружья, взятые на прицел. Такой же угрожающий жест привел в движение
ружья стоявших впереди нас казаков. Смертельно
бледный полицеймейстер едва выговаривал слова команды. Солнце ярко
заблистало на засверкавших штыках и заставило меня невольно обернуться назад на
нашу группу с мыслью о том, что я, может быть, вижу всех товарищей в последний
раз...
Я оглянулась на полицеймейстера в тот
момент, когда он внезапно повернул свою армию назад, сделав знак пароходу об
отплытии назад. Он придумал в последнюю минуту обходное движение и направил
пароход минуя пристань к другому пункту, куда поспешили и мы, встретив партию
уже на пути к нашим квартирам».
Такую же нерешительность пришлось проявить
тому же Березкину и на демонстрации 23 августа, когда якутские ссыльные,
находившиеся на свободе, провожали осужденных романовцев на каторгу. Описание
этой демонстрации, сделанное одним из якутских товарищей под непосредственным
ее впечатлением, мы находим в книге П. Теплова [* История якутского протеста», стр. 352.].
«Якутск. День отправки «романовцев» был
назначен на 23 августа; около 6 ч. вечера к воротам тюрьмы собрались
политические в количестве 40-50 человек, а сзади них там и сям группировались
кучки обывателей. После приема конвоем из-за палей тюрьмы раздалась рабочая
«марсельеза». Могучие звуки стройного хора последний раз огласили тюремный
двор; как будто что-то оборвалось в груди, когда голоса дорогих нам товарищей
замерли в воздухе: «Романовцы», которых с вольно-следующими больше 60, вышли
из-за тюремных ворот и, окруженные сетью конвойных солдат, собирались
отправиться к берегу, где ожидал их пароход «Алдан» с баржей... Звуки
«варшавянки», раздавшиеся их наших рядов, огласили воздух; воодушевление было
неописуемое; мы пропели несколько куплетов и сплоченной группой двинулись за
нашими товарищами, отделяемые от них цепью городовых. Требования
полицеймейстера разойтись только усилили всеобщий энтузиазм, и был момент,
когда мы были готовы на все, если б полиция проявила хоть малейшую попытку
учинить над нами насилие... Как только партия миновала тюрьму, мы
приветствовали ее возгласами: «Да здравствуют романовцы!», «Долой
самодержавие!», «Да здравствует грядущая революция!», а сзади и с боков
теснились обыватели и учащиеся, жадно прислушиваясь к нашим взаимным приветствиям.
На берегу нас ожидала толпа человек в 150-200, среди нее были также рабочие
казенного винного завода, только что кончившие работу и поспешившие на берег.
Вся толпа, вместе с нами доходившая до 250-300 человек, стояла на берегу, а на
барже у берега толпились товарищи, готовые к отплытию... С баржи раздались
возгласы: «Товаращи, вечная память Матлахову!», «Вечная
память Науму Шацу!», «Вечная память жертвам якутской бойни 1889 г.!»
В ответ последовало несмолкаемое
громогласное «ура», и дружное пение («Вы жертвою пали в борьбе роковой») с
баржи и берега огласило воздух».
Так, Якутск в 1904 г. присоединился к волне
революционных демонстраций, пронесшихся в те годы по царской России. К этому же
периоду относится и начало нелегальной работы ссылки среди местного населения,
хотя более значительное развитие она получила только в последующие годы.
/100 лет Якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Под редакцией М.
А. Брагинского. Москва. 1934. С. 201-203./
*
М. Константинов
РЕВОЛЮЦИЯ 1905 г. В ЯКУТИИ
Летом 1904 г. были устроены ссыльными с участием местного населения две
больших, по якутским размерам, демонстрации: одна 21 июня при встрече паузка с
партией, в которой был привезен М. Минский, убивший конвойного начальника
Сикорского, и другая 23 августа при отправке осужденных романовцев в Иркутск.
/100 лет Якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Под редакцией М.
А. Брагинского. Москва. 1934. С. 230./
*
И. Г. Ройзман
НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ В ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
К моменту суда над «романовцами» в Якутии скопилось много политссыльных.
Съехались политссыльные самовольно, волновались, бурлили, беседовали и спорили
между собою — особенно о борьбе в ссылке — без конца, и во время этих споров
возникла мысль создать нелегальный орган «Вестник Ссылки». Инициаторами были
«борьбисты» — жившие или добившиеся перевода в Чурапчу. Редакторами были Н. Л.
Мещеряков, М. Н. Душкан, Б. Цейтлин (двух последних нет в живых) и др.
Сотрудничали и другие — как пером, так и техникой.
Приведенные здесь данные получены в устных беседах с участниками этой
работы. Имеются также печатное воспоминания т. Л. Н. Мещерякова, рисующие
возникновение журнала и технику работы...
Больше сказанного, т. Мещеряков сейчас не может вспомнить о содержании
«Вестника Ссылки». Другие живые сотрудники и недавно умерший т. Душкан помнят
еще меньше. Номеров «Вестника» в архивах не сохранилось. Только в нелегальных
бундовских «Последних Известиях» того периода имеются подробнее данные о
«Вестнике Ссылки»...
За короткое существование
«Вестника Ссылки» можно отметить два события, всколыхнувших ссылку и долго ее
волновавших. И эти двум событиям, да еще «романовскому» процессу отведено главное
место в отделе III. Эти два события следующие:
Первое. Мытарства первой летней партии политссыльных, прибывшей по Лене
из Александровской (Ирк. губ.) центральной пересыльной тюрьмы в Якутск, и
последствиях этих мытарств; убийство жестокого и развратного дегенерата
Сикорского, начальника конвоя, студентом Минским и гибель одного из лучших
революционеров Наума Шаца от ответных выстрелов конвоя...
/100 лет Якутской
ссылки. Сборник Якутского землячества. Москва. 1934. С. 323-324, 326-327./
Широкий
резонанс как в России, так и за границей нашла драма, развернувшаяся в
Олекминском округе, под с. Нохтуйском. При прохождении по Лене партии
политических ссыльных во время очередной остановки под Нохтуйском начальник
конвоя партии поручик Сикорский при попытке добиться интимной встречи с одной
из политссыльных девушек в 4 часа утра 11 июня 1904 г. выстрелом из револьвера
был убит [* Якутская история. Драма под
Нохтуйском. – Вып. 2. – Женева, 1904. – С. 46; ЦГАЯ, ф. 12, оп. 21, д. 65, л.
59-71.]. Конвойные открыли огонь, в результате чего
стрелявший в поручика М. Минский был ранен, а Гирш (Нафтал) Шац — убит. Его
тело 15 июня привели в г. Олекминск, где и похоронили [* ЦГАЯ, ф. 12, оп. 12, д. 723, л. 61.].
/Казарян П. Л. Олекминская
политическая ссылка 1826-1917 гг. Изд. 2-е доп. Якутск. 1996. С. 99-100, 447./
Широкий
резонанс как в России, так и за границей получила драма, развернувшаяся в
Олекминском округе, под с. Нохтуйском. При прохождении по Лене партии
политических ссыльных, во время очередной остановки под Нохтуйском начальник
конвоя партии поручик Сикорский при попытке добиться интимной встречи с одной
из политических ссыльных девушек в 4 часа утра 11 июня 1904 г. выстрелом из
револьвера был убит [* Якутская история. Драма под
Нохтуйском. – Вып. 2. – Женева, 1904. – С. 46; НА РС(Я), ф. 12, оп. 21, д. 65,
л. 59-71.]. Конвойные открыли огонь, в результате чего
стрелявший в поручика ссыльный М. Н. Минский был ранен, а другой ссыльный Н. Г.
Шац — убит. Его тело 15 июня 1904 г. привели в г. Олекминск, где и похоронили
выше города, на сопке (могила сохранилась до сих пор, благодаря комсомольцам
Олекминска 1970-х годов) [* НА РС(Я), ф.
12, оп. 12, д. 723, л. 61.].
/Казарян П. Л. Якутия в системе
политической ссылке России 1826-1917 гг. Издана на средства главы строительной
фирмы В. А. Азатяна. Якутск. 1998. С. 257, 447./
III. ТЮРЕМНЫЕ, СУДЕБНЫЕ,
ЖАНДАРМСКИЕ ОРГАНЫ
Ф.
245. Прокурор Иркутской судебной палаты
/Архивы России о
Якутии. Выпуск 1. Фонды Государственного архива Иркутской области о Якутии.
Справочник. Отв. ред. проф. П. Л. Казарян. Якутск. 2006. С. 205./
Лев Кассиль
О
земле Соленых Скал и Дороге Слез
В 1905 году, когда в борьбе против царского
строя вместе с русскими рабочими, крестьянами, студентами шли на бой за свободу
народов революционеры Украины, Грузии, Польши, 28-летняя полька Станислава
Суплатович, движимая благородным порывом, стала деятельнейшей участницей
освободительного движения. Но, как известно, «генеральная репетиция» первой
русской революции кончилась тогда победой царизма. Вместе со своими соратниками
и единомышленниками тяжело поплатилась за свою революционную деятельность и
Суплатович. Ее схватила царская полиция. Суплатович сослали на Чукотский
полуостров, в самый отдаленный угол Российской империи. Для нее молодой,
малоприспособленной к жизни, одинокой, неопытной, такая ссылка была равносильна
смертному приговору. Она была фактически обречена на гибель от нужды и лишений,
от мороза или цинги.
Но отважная революционерка не сдалась. Она
решила бежать. Местные жители-чукчи, симпатии которых удалось завоевать
Суплатович, помогли ей переправиться через Берингов пролив на Аляску. оттуда
она кое-как добралась до Канады. Несчастная уже погибала от голода и усталости,
когда ее нашли индейцы из племени шеванезов (шауни). Они приютили, выходили,
вылечили беглянку, и, благодарная, она осталась
в племени. Шеванезы назвали ее ласково и величественно: «Белая Тучка». А
через три года Белая Тучка стала женой Высокого Орла, главного вождя племени...
/Сат-Ок. Земля Соленых Скал. Пер. с пол. Ю.
Стадниченко. Москва. 1964. С. 8-9./
[С. 188.]
[С. 45.]
[С. 124.]
О КНИГЕ И ЕЕ ГЕРОЯХ
В этой книге описана судьба двух
революционеров, представителей дружественных русского и польского народов.
История их жизни рассказана на фоне великих событий, предопределивших будущее
этих народов. Внимательно, с волнением следя за судьбой героев книги, мы в то
же время узнаем много нового и интересного об этих событиях, особенно о том,
как боролся за свое лучшее будущее польский народ, какие трудности и жертвы
понесли борцы за власть Советов на Северном Кавказе, как жили и боролись за
свою независимость американские индейцы из племени шеванезов.
«Дороги сходятся» — какое удивительно
точное и символическое название у этой книги! В нем основная мысль и содержание
повествования. Его можно отнести не только к биографиям героев, дороги которых
сошлись на перекрестках революционной судьбы каждого из них, но и к народам,
описанным в книге, дороги которых также сходятся, ибо ведут они, эти дороги, к
одной великой цели — коммунизму. Это название имеет еще один смысл: сошлись
дороги не только героев книги, но и их потомков, авторов повести.
Жизнь иногда дарит нам такие сюжеты,
которые не сможет придумать ни один фантаст. Именно такой необычный жизненный
сюжет лежит в основе книги «Дороги сходятся». Он предопределен общностью судеб
и целей народов России и Польши, поднявшихся в начале нынешнего века на борьбу
против своего главного врага — царского самодержавия.
Исторически
верно, на основе документов, собранных авторами, воспоминаний современников в
книге рассказывается, как проходила эта борьба в Польше, входившей тогда в
состав Российской империи, и на южной окраине этой империи — в Терской области.
Произведение, раскрывающее дружбу народов, имеет большое воспитательное
значение, и с большим интересом будет прочитано, особенно молодыми строителями
новой жизни в странах народной демократии, где по стопам героев этой книги идут
миллионы строителей коммунизма.
Станислава
— героиня книги — в дни декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве,
обращаясь к своим соратникам по борьбе, говорила:
— Наш комитет социал-демократической
партии... обратился с воззванием к рабочим Польши продолжать начатую всеобщую
забастовку в знак солидарности с московскими братьями. Наша дружба и наша
борьба — большая для них поддержка, и она приблизит час победы революции... Для
нас еще не пробил час вооруженного восстания, но мы должны быть к нему готовы.
Должны быть готовы к самым тяжелым испытаниям. Мы должны учиться у наших
русских товарищей! Слава рабочим Москвы!
В эти же дни первой русской революции 1905-1907
годов вступил на стезю революционера совсем еще юный реалист Георгий
Пашковский, слушатель одного из революционных кружков столицы Терского края
города Владикавказа (ныне Орджоникидзе). Обоих их ждала тяжелая судьба.
Должен сказать, что в нашей художественной
литературе мало книг, в которых бы так ярко и правдиво была описана жизнь
революционеров в заточении. И вполне справедливо авторы подчеркивают, что никакие
испытания не смогли сломить волю борцов, и в необычайно трудных условиях они
продолжали борьбу, учились, готовились к будущим боям...
Да, в заботах сегодняшнего дня молодежь не
часто задумывается над тем, какие тяготы и лишения пришлось перенести старшему
поколению, чтобы завоевать ей право учиться, свободно выбирать себе пути в
жизни. Она, молодежь, да и мы, взрослые, выросшие при Советской власти и
живущие сейчас в век атомной энергии и сверхзвуковых лайнеров, не можем даже
представить себе судьбу и жизнь тех, кто долгие годы томился в тюрьмах и на
каторжных работах. На страницах книги перед нами оживают судьбы этих людей.
Героиня, прошедшая все испытания ссылки,
каторги, труднейшего побега через континент — из Сибири в Канаду, долгие годы
прожившая в индейском племени, воспитавшая там двух сыновей и дочь, не потеряла
веру в светлое будущее своей родины — Польши. Перед нами один из ее сыновей —
автор этой книги, принявший эстафету своей матери-революционерки, продолживший
ее традиции в борьбе за свободу Польши в рядах партизанских отрядов и сейчас
активно участвующий в строительстве социализма в своей освобожденной родине. То
же можно сказать о втором авторе — близкой родственнице Георгия Пашковского...
Заключительные главы книги посвящены самому
важному периоду в жизни одного из ее героев — Г'. Г. Пашковского. Вернувшись
после многолетней ссылки в родные места, он сразу же включился в кипучую
деятельность. Оставаясь членом партии левых эсеров, Пашковский с первых дней
приезда во Владикавказ стал работать под руководством и в тесном контакте с
большевиками. В этом ему помогли такие видные деятели партии, как С. М. Киров,
Г. К. Орджоникидзе, С. Г. Буачидзе. Вскоре Пашковский вырос в видного руководящего
деятеля Терской народной республики, занимая в ее высших органах ответственные
посты: председателя областного комитета земледельческих (крестьянских) Советов,
члена Совета Народных Комиссаров и председателя высшего органа республики —
Терского Народного Совета...
Посвятив с ранних юношеских лет свою жизнь
борьбе за свободу ми счастье народа, Георгий Пашковский всей своей
деятельностью на Тереке доказал, что он был достоин этой миссии. Он погиб от
пули врага на посту, но память о нем, как и о его польской подруге, никогда не
умрет в сердцах новых поколений борцов за правое дело, за великое и светлое
будущее человечества.
А. Мельчин,
кандидат исторических наук
/Расулова А.
Суплатович С. Дороги сходятся. Повесть.
Москва. 1973. С. 3-8./
*
А. Расулова
С. Суплатович
ДОРОГИ СХОДЯТСЯ
Родилась Станислава Окульска в польском
городе Кельцы, в зажиточной семье. Росла она девочкой пытливой и
любознательной. Все ей хотелось знать: и почему мир делится на богатых и
бедных, и как сделать так, чтобы не страдали одни от голода и нищеты, в то
время как другие живут в роскоши. Не получая ответа на свои вопросы в семье,
она обращалась к книгам. Но и в них не всегда находила ответ.
Подруг у Станиславы было немного. Самой
близкой из них была Мария, дочь преподавателя русской литературы в мужской
гимназии Петра Степановича Волкова. Под его влиянием и начали формироваться ее
взгляды на жизнь.
Первое, что поразило Станиславу, когда
впервые пришла она в дом Волковых, — это множество книг.
Именно библиотеке Петра Степановича обязана
она своим знакомством с русскими классиками. Нравился ей и весь уклад семейной
жизни Волковых с его душевностью и радушием.
В доме у Петра Степановича часто собиралась
молодежь, русские и поляки, музицировали, пели. Но больше всего их влекли сюда
коллективные чтения, ставшие традицией этой семьи. Читали, а потом допоздна шли
бурные обсуждения. И нередко литературные споры переходили в политические,
непременным участником которых был Петр Степанович.
Случалось, что читали здесь и запрещенные
листовки. Их обычно приносили сами гости. Если же при чтении возникали вопросы,
обращались к Петру Степановичу.
— Скажи, папа, за кем правда? — спросила
Мария отца в один из таких вечеров. — За теми, кто говорит, что борьба польских
революционеров с царизмом должна быть общей с рабочими России или за теми, кто
утверждает, что поляки должны прежде всего...
— Освободиться от национального гнета, а до
остального им, мол, и дела мало? Это ты хотела сказать?
— Да, папа. Сегодня в гимназии спорили об
этом чуть не до драки.
— Спорят
по этому поводу не только у вас. Видите ли, польская буржуазия боится единства
поляков с русскими. А почему? Представьте: произойдет революция, отберут
крестьяне землю у панов, в руки рабочих перейдут заводы, упразднятся
повинности. Для буржуазии же это крах. И чтобы отвлечь трудовой народ Польши от
совместной с русским пролетариатом классовой борьбы, правящая верхушка и стремится
направить польское движение в русло узконационалистических интересов. Вот отсюда
и споры их с революционерами-интернационалистами, которые видят борьбу поляков
за национальную и социальную свободу только в тесной связи со всем российским
революционным движением...
В 1903 году, спустя три года после первого
своего ареста, Станислава вступила в ряды Польской социал-демократической
партии. И вскоре была послана на партийную работу в Радом, город кожевников, с
дымящимися день и ночь многочисленными трубами...
Партия арестованных, с которой Станислава
покидала Радом, состояла из двадцати человек. Связанных между собой, их вели по
совершенно пустым улицам под конвоем двух рядов солдат с ружьями наперевес.
За городом узников рассадили на телеги и,
опасаясь возможного нападения вооруженных рабочих железной дороги, повезли на
отдаленную небольшую станцию. Там их погрузили в вагоны поезда, идущего в
Москву.
Вплоть до весны просидела Станислава в
Бутырской тюрьме...
Разделившись, партия, в которую вошла
Станислава, шла сотни верст пешком до Жигалова. Отсюда, погрузившись на паузки,
двинулись по реке Лене, в Киренский уезд.
Вот уже несколько дней они в пути. Редко-редко,
верст через сорок, покажется селение. Но это только остановка. На одной из них
и услышала Станислава историю, особенно взволновавшую ее. Как-то подсела она к
группе политических, расположившихся вокруг пожилого ссыльного.
— В этих краях и произошло это, —
проговорил он, заканчивая, видно, какой-то рассказ. — И годков было той Марии
вот как ей, — кивнул рассказчик на Станиславу, — и сказывали, шла она не то из
Польши, не то из Литвы.
— Из Польши? — заинтересовалась Станислава.
— Говорите, звали Марией?
— Марией звали...
«Уж не Мария ли Волкова?» — подумала
Станислава. Еще в Радоме слышала она, что Петр Степанович с дочерью сосланы в
Сибирь.
— А фамилию не помните? И что случилось с
ней?
— Фамилию, врать не стану, не помню, а что
случилось — тебе товарки перескажут.
История, которую она услышала от подруг,
была связана с убийством конвойного офицера. И хоть произошло это года два
назад, знали о ней многие и передавали ее из уст в уста.
Офицер Сикорский в качестве начальника
конвоя сопровождал партию политических и уголовных из Александровской
пересыльной тюрьмы в Киренск. Приглянулась ему среди политических одна девушка.
Однажды он послал своих солдат, чтобы они доставили ее на конвойный паузок. Но
ссыльные сразу почувствовали недоброе и не выдали Марию. Сикорский послал
солдат вторично. Но те, видимо, понимая свою роль в этой истории, действовали
не очень-то настойчиво и даже позволили задержать себя.
Не дождавшись посыльных, начальник конвоя
распорядился нагнать паузок с политическими, посадив солдат на весла. Обычно же
паузки плывут один за другим по течению сами. Замыкающим этот караван всегда
был конвойный паузок. Заметив маневр офицера, сели на весла и заключенные.
Первым на место остановки прибыл паузок ссыльных.
С помощью местных жителей ссыльные послали телеграмму в Иркутск и прошение
местному начальству с требованием вмешаться в недозволенные действия начальника
конвоя.
Ответа из Иркутска не последовало. Местный
же пристав пообещал сопровождать партию в пределах своего участка.
Так и шли. Пристав в своем шитике — крытой
лодке, рядом паузок политических, следом уголовники, в конце офицерский конвой.
На всякий случай политические несли на
своем паузке поочередное дежурство. Было заготовлено и оружие: браунинг,
вывезенный еще из Александровской тюрьмы, несколько финских ножей.
На какое-то время Сикорский приутих. Но,
когда пристав, достигнув границы своего участка, вернулся, Сикорский снова
почувствовал себя полновластным хозяином. Он объявил остановку в безлюдной
местности и на рассвете с конвоем солдат явился на паузок политических.
Конвойные солдаты заняли носовую часть
паузка, встали у входа в барак заключенных. Справа от входа, за занавеской,
размещались женщины. Туда и ринулся Сикорский. Но тотчас раздался выстрел...
Среди солдат началась паника. Перед тем,
как отправиться на паузок политических, Сикорский отправил на берег своего
помощника, осуждавшего все его действия. И теперь, оставшись совсем без
начальства, солдаты открыли беспорядочный огонь. Среди политических убитые и
раненые. Подоспевший к этому времени с берега помощник Сикорского хотел было
отдать команду общего расстрела ссыльных, но, узнав о мотивах убийства своего
начальника, ограничился только тем, что сообщил властям о случившемся.
На допросе стрелявший в Сикорского показал,
а все, политические и солдаты, подтвердили, как было дело, и тут выяснилось,
что на всем пути конвойный офицер всячески издевался над политическими. На
остановках, где не было заготовлено заранее питание, он не разрешал ссыльным
ходить в село за продуктами и оставлял их без куска хлеба. В селе Московском он
разместил уголовных в помещениях, политических же оставил на ночлег под
открытым небом. А когда в знак протеста те отказались следовать дальше,
распорядился привязать всех к телегам.
Всю дорогу офицер бранился площадной
бранью. На замечания же старосты партии цинично отвечал: «Если кому не
нравится, пусть заткнут уши ватой. А я действую по инструкции».
Инструкция!
Станислава хорошо знала ей цену. Это она
давала право конвойным издеваться над ссыльными, принижая их человеческое
достоинство, пускать в ход оружие. Ею руководствовался генерал-губернатор
Скалон, отдавая предписание: «При встречах с демонстрантами применять оружие
как целыми частями, так и отдельными солдатами, ни под каким видом не допуская
стрельбы холостыми патронами и вверх».
Не раз Станислава испытывала на себе силу
этой инструкции и на улицах Радома, в радомской и в пересыльных тюрьмах. А что
ждет еще впереди? Какие новые испытания готовит она ей?
Еще в Иркутской тюрьме узнала Станислава,
что Киренский уезд — самый отдаленный край. Нет здесь ни школ, ни больниц.
Избушки топятся по-черному. Окна затянуты бычьими пузырями и только как
исключение — слюдой. И если в зимнее время сообщение между селами еще кое-как
поддерживалось, то в осеннюю и весеннюю распутицы они оказывались отрезанными
от всего мира.
Как-то неизвестным путем попала к ссыльным
в камеру газета «Сибирская жизнь», и прочитала в ней Станислава письмо ссыльного
корреспондента из Киренска. «Не знаю, — писал он, — знакомо ли вам тоскливое
чувство полнейшего одиночества и беспомощности, леденящее сердце, переполняющее
страхом за день, за ближайший час. Куда ни пойдешь, всюду такие же, как ты, —
ищущие хлеба. Мне здесь, на Лене, впервые пришлось испытать его... Забыться бы!
Но как? Книг нет. А те, что имеются, давно прочитаны. Единственное утешение —
почта. Но она приходит редко. Гнетущая тишина ссылки давит мозг, доводит до
отчаяния...»
Такое же отчаяние охватило и Станиславу,
когда их партия прибыла на место назначения в село Алексеевское Киренского
уезда. Сколько однообразных дней предстоит здесь прожить? На какой-то миг
девушке вдруг показалось, что не она, а кто-то другой будет жить этой унылой
жизнью. В который раз приходит мысль о побеге. Но она хорошо знает, что в
случае неудачи бежавший дополнительно получает три-четыре года ссылки, а то и
каторги. А это значит — все начинать сначала.
Некоторые из ссыльных видели избавление в
смерти, поэтому нередки были среди них случаи самоубийства. Но Станислава не
считала это выходом. Верила: она еще нужна людям.
Эта надежда скрашивала жизнь и большинства
ссыльных, настоящих революционеров, в ком жила уверенность в будущее, кто ради
него, этого будущего, готов был пройти через все настоящее, как бы тяжело оно
ни было, каких бы физических и нравственных сил оно ни потребовало.
Стояла глубокая январская ночь. Сквозь
порывы ветра, сотрясающего бревенчатую избушку, Станислава услышала стук в окно.
«Кто бы это?» — удивилась она.
Накинула шубенку, приоткрыла дверь и
увидела невысокого человека в большой меховой шапке-малахае, какие носят
местные жители.
— Кто здесь?
— Сестренка, помоги, пожалуйста, жена
рожает... Трудно рожает, — послышался тревожный голос. — Никого, однако, кругом
нет...
— Господь с тобой, я же не доктор.
Все равно помоги... совсем жена помирает...
Что оставалось Станиславе делать? Отказать?
Нет, этого она не могла сделать. Положение, видно, отчаянное, иначе не
обратился бы этот человек к ней за помощью.
В яранге,
куда вошла Станислава, было сизо от дыма. На полу, на разостланных шкурах
лежала женщина. Станислава вскипятила воду, расстелила захваченное с собой
старенькое белье, уложила на него роженицу.
— Все будет хорошо, — приговаривала она,
перехватывая тревожный, полный отчаяния взгляд женщины. — Сына родишь, любить
его крепко будешь.
Весь остаток ночи хлопотала около больной
Станислава, а утром яранга огласилась звонким голосом новорожденного.
С тех пор, стоило кому-нибудь заболеть или
пораниться на охоте, посылали за «фельдшеркой», как называли теперь Станиславу
сельчане. А потом и просто так стали заходить к ней — на огонек. Сначала
поодиночке, а потом и группами. Она читала им книги, рассказывала о происшедшей
в России революции, о том, как расправляется царь с теми, кто борется за
свободу.
Покуривая длинные самодельные трубки, люди
слушали ее, согласно кивали головами, время от времени вставляя свое,
наболевшее — о голоде, нищете. Каждый царский чиновник над ними начальник,
каждый может пригрозить плетью.
Любила Станислава такие вечера. «Вот что
должно заполнять здесь жизнь», — думала она, вспоминая письмо ссыльного
корреспондента, да и свои недавние невеселые мысли.
Как-то обратился к ней молодой якут с просьбой.
— Обучи самому читать книги. Очень, однако,
учиться хочу.
— Ну что ж, — ответила Станислава с
улыбкой, — давай обучу.
На урок молодой якут пришел не один, с ним
было еще человек десять.
Ссыльным не разрешалось заниматься
просвещением местного населения без особого на то разрешения, так что
собираться приходилось тайком от жандармов. Неудивительно, что нередко стала
Станислава находить по утрам возле своих дверей то теплые торбаса, то вяленую
рыбу. Человеческое сердце отзывчиво на добро.
Станислава внимательно наблюдала жизнь якутов, расспрашивала о прошлом
Киренского уезда. Они и рассказали ей, что первыми, кто отбывал здесь ссылку,
были декабристы [* М.
Голицын и А. Веденяпин.]. Были и ее земляки — повстанцы 1883 года. Еще
сохранилась дорога, которую они строили. Она так и называется — Польская. Через
Киренск шли революционер-демократ Н. Г. Чернышевский, писатель В. Г. Короленко.
Книги, грамота, бескорыстная медицинская и
юридическая помощь, которую оказывали политические местным жителям, вызывали
огромную к ним симпатию.
Станислава не раз замечала, что крестьяне
воздерживались в присутствии ссыльных от бранных слов. При встрече почтительно
здоровались, сняв головной убор, а если кто вдруг окажется в нетрезвом виде —
долго потом извиняется.
Когда среди ссыльных возникла идея о
создании отделения Союза политических ссыльных, по опыту Иркутского, первой
откликнулась Станислава. И ни страх перед возможностью быть схваченной
жандармами, ни то, что может последовать за этим, не останавливали ее, когда
ходила она из села в село, неся связки книг, письма, короткие информации с
припиской «По прочтении уничтожь».
Прошло три года.
На исходе стоял май. Почернел и покрылся бурыми
пятнами снег в оврагах, зазеленела первая травка. А когда начала сдаваться еще
стоявшая во льдах Лена, уже не в первый раз стали поговаривать ссыльные о
побеге.
Европейскую часть России с Сибирью
связывала единственная в то время дорога, известная под названием «Владимирка».
Проходила она через Читу, Иркутск, Красноярск, Томск, Омск. Затеряться на ней
бежавшему из ссылки, казалось бы, невозможно — полиция знала начиная от Иркутска до Якутска буквально всех жителей
наперечет, и, когда сообщалось по линии о побеге, все поднималось на ноги. И
все-таки побеги случались. И многие оканчивались благополучно.
Огромную помощь встречали беглецы со
стороны колоний политических, уже прочно обосновавшихся в Иркутске и
Красноярске: получали деньги, паспорта. Были созданы пункты содействия беглецам
и коренными жителями Сибири. Сразу же после побега людям приходилось подолгу
отсиживаться где-то поблизости, выжидая, пока утихнет шум, поднятый полицией, а
уж потом пускаться дальше. Поддержка таких пунктов была неоценима.
Бежать из села Алексеевского собралось
около двадцати человек. Снова и снова обсуждали они все известные случаи
побегов.
Одним смельчакам удалось проскочить
Приленский тракт до того, как был обнаружен побег. А пока о нем сообщалось по
начальству (телефонная же связь была начиная только с Амола),
беглецы успели в Красноярске запастись деньгами, новыми паспортами и двинуться
дальше.
Другая группа ссыльных из Киренского уезда
нанялась на летние работы на Олекминский прииск. Принял их подрядчик по
фальшивым документам. Он же помог пуститься вниз по течению Лены.
Путь, избранный группой Станиславы, лежал
через тайгу по еле заметным тропинкам, которыми иногда перегонялся из Якутии
скот. Чтобы обеспечить побег, требовались запасы продуктов на несколько месяцев
и вьючные лошади. Подготовка к нему проходила долго и скрывалась самым
тщательным образом...
...Глухой темной ночью беглецы тронулись в
путь. Он оказался куда трудней, чем они представляли его себе.
Сколько шли, этого Станислава, как ни
старалась, вспомнить потом не могла — может, год, а то и больше. Они
продирались сквозь дремучую тайгу. Не раз ночь заставала их под нависшими над
грохочущей рекой скалами, готовыми вот-вот рухнуть. Тесно прижавшись друг к
другу, поочередно дежуря, они ждали утра, чтобы снова отправиться в путь без
дорог и троп.
Версты считались одна за четыре. По
нескольку дней приходилось блуждать, потеряв направление. Питались тем, что
удавалось раздобыть. Хорошо, если это была пойманная в быстрой реке рыба или
мясо убитого зверя, но чаще приходилось довольствоваться кореньями трав или
молодыми побегами лиственниц да морошкой.
Изредка встречались селения. Но в них они
старались не заходить, чтобы не столкнуться с представителями власти.
Когда после долгого пути прошли Берингов
пролив и достигли Аляски, партия разделилась: одни остались в прибрежных горных
селениях, другие направились в сторону Канады. С ними пошла и Станислава.
Сначала их было одиннадцать, потом осталось
девять. И вот уже что ни день, то снова теряют они одного за другим товарищей.
Наконец наступил день, когда Станислава осталась одна. Кругом белая, слепящая
глаза снежная пелена. Разве изредка встретятся следы пробежавшего зверя да
промелькнут меж кустов заячьи уши.
Куда идти? Что ожидает ее впереди? Об этом
Станислава не думает. Мысль лихорадочно работает только в одном направлении —
выжить. Чтобы хоть как-нибудь заглушить мучительные приступы голода, Станислава
обгладывает ветки кустарника, кору ивовых деревьев, разгребая снег окоченевшими
руками, добирается до крохотных зеленых стебельков хвоща. Как-то ей приходилось
слышать от киренчан: хвощ для оленей зимой — все равно, что человеку мясо.
А мороз, как нарочно, крепчает. Коченеют
ноги, двойные торбаса давно не защищают от холода. Появилась боль в суставах.
Каждое движение требует неимоверных усилий. Станислава чувствует, как час от
часу слабеют мускулы, и, когда ее неодолимо потянуло ко сну, до сознания дошло
— она замерзает.
Схватив пригоршню снега, Станислава через
силу растирает немеющее тело. Растирает до боли, до жжения.
Так проходит день. За ним второй, третий...
Теперь уже все — и стремление Станиславы
побороть наступающий конец, и движение вперед — проходит как бы помимо ее воли,
автоматически. Она уже не воспринимает окружающего. Даже страх одиночества
покинул ее. Голодные обмороки валят Станиславу с ног. Приходя в сознание, она
не сразу понимает: что с ней? Автоматически снова растирается снегом.
К вечеру четвертого дня Станислава набрела
на шалаш из ветвей, сложенный, видно, охотниками. Онемевшими руками она жадно
тянется к ломтям вконец промерзшего хлеба с кусками оленины. Таков неписаный
закон жителей севера: уходя, оставлять в шалаше для случайного путника пищу,
пусть хоть малую толику, спички, хворост для костра.
Тела Станислава уже не чувствует. Только
мысли еще продолжают свою лихорадочную работу. «Покой — самый страшный сейчас,
самый опасный враг. Ты, наверное, прав был, мой друг, когда говорил: на побег
можно решиться, только будучи уверенным в нем, только когда до последней капли
рассчитаны силы... А их уже нет. Нет и надежды... Разве нет? А ты говорил: если
бьется сердце, значит, есть и надежда...»
И вдруг... что это? Сквозь порывы ветра
донесся лай собак. Станислава прислушалась. Вот ближе и ближе. Захрустел снег,
послышались голоса. Почудилось, видно. Откуда тут взяться людям? Может, зверь
почуял добычу? Только подумала, как откинулся сплетенный из веток полог, и
струя воздуха коснулась ее лица. А вот и люди. Но почему на них такой странный
наряд? Откуда они?
И снова до сознания Станиславы доходит
человеческая речь. Она ее не понимает. Но чувствует, как наклонились над ней,
подняли и понесли...
/Расулова А.
Суплатович С. Дороги сходятся. Повесть.
Москва. 1973. С. 47-48, 53, 63, 87-95./
*
Юрий Дым 61
ЖУТКОВСКИЙ И САТ-ОК
Из
воспоминаний художника Бориса Жутовского.
Сат-Ок
/Станислав Суплатович/.
ПРИМЕЧАНИЕ: подобные
рассказы сам Жутовский называет «байками», но, тем не менее...
Борис Жутовский: 1904 год. Могу ошибаться
на год-два. Происходит покушение на генерал-губернатора в Польше. Неудачное.
Трех молодых людей из города Радома хватают и приговаривают к повешению. Двух
молодых людей и девочку. Приводят на эшафот, зачитывают указ, мальчиков вешают,
а девочке – Высочайшее помилование, и ее ссылают на Кару. Она идет на Кару
пешком, как и принято, по Южной дороге, через Оренбург. По дороге, где-то в
оренбургских степях, к ним примыкает группа революционеров Закавказья. По
дороге у нее возникает роман, и на подходах к Верному, это теперешняя Алма-Ата,
она рожает ребенка. Ребенка у нее отнимают, как полагается, отдают его в
детский дом, а она идет на рудники работать.
Карские рудники – это чудовищное место, я
там был один раз в жизни. Это такая впадина, где рудники по добыче меди,
поэтому кислорода там минимум и туберкулез там просто на третий год пребывания
автоматом. Девочка эта серьезно заболевает, ее кассируют и ссылают на Чукотку,
в землянку, с рыбьим пузырем вместо окошка, вместо стекла. Раз в год приезжает
урядник проверить – там ли она. Как там она жила, я не знаю, но через два года
после того, как она прибыла на Чукотку, она исчезает. Депеша в Петербург, из
Петербурга – во всероссийский розыск. Тут уже назревает революция, через
какое-то время уже не до этого дела, в России – шухер.
Через два с половиной года ее, еле живую,
находит в степи на севере Канады племя шеванезов. Старухи отпаивают ее травами,
дают ей новое имя, она теперь называется Белая Тучка, потому что она блондинка.
Вождь племени с сухой рукой белого человека на шнуре (сам видел фотографию)
берет ее в жены. Делает ей троих детей, и она живет в этих степях, в этом
племени.
1938 год. Она говорит своему мужу, главе
племени, просит у него позволения съездить на родину, в Польшу, чтобы проведать
родителей. Он ей позволяет. Она берет с собой младшего сына, которому лет
пятнадцать. Мальчик-индеец. На каноэ добираются до Монреаля, садятся на пароход
до Гавра, в Гавре – на поезд до Радома. Приехали в город Радом, выясняется, что
родители умерли, а двое сестер поделили наследство, уверенные в том, что ее
давно нет на свете. Она – польская дама, она начинает склоку за наследство.
1 сентября 1939 года. Ее никто не трогает,
она – немолодая поношенная блондинка, полька, а мальчик – индеец, почти цыган.
В поезд и – в Освенцим. По дороге он вскрывает пол вагона, выпускает шесть
человек, сам – седьмой, сваливает из этого поезда и отправляется к партизанам.
За его голову объявлено несметное количество денег, потому что он стреляет из
лука, без выстрела и, как всякий индейский мальчик, он попадает туда, куда
хочет. Бешеные деньги! И поймать его нельзя, потому что он-то в лесу – свой.
1945 год. Оказалось, что он сражался за
Армию Крайову, а побеждает Армия Людова. Тут его хватают наши ребята. Для наших
ребят все-таки эйфория победы, а тут – настоящий индеец. Причем зрелище
очаровательное – это двухметровый малый, с черными волосами и с голубыми
глазами, с выражением лица полного идиота. Его выпускают. Он поучился немножко,
потом его взяли в Политехникум в Гданьске, он кончает этот Политехникум и становится
механиком на первом теплоходе «Баторий». Поляки были первые, кто устраивали эти
прогулочные гигантские корабли. Это был «Баторий-1». Плавает в Польше. Он к
этому времени знаменит, потому что он возится с пионерами, он строит с ними
вигвамы, он учит их стрелять из лука, он учит их кидать томагавки в деревья.
Ну, пионеры от него в восторге, книжки выпускает по поводу того, как что строят
у индейцев, член партии – все, как полагается.
Второй или третий рейс «Батория» в Канаду,
и он решил повидаться со своими, с отцом и семейством, и он им каким-то образом
сообщает, что приедет в Монреаль. Он сошел на берег, к нему на встречу приехала
сестра. На его глазах эту сестру убивают. Потому что польская эмиграция в
Канаде, Армия Крайова и вся эта линия большая в Канаде – стопроцентно
антисоветская. А он – советский, как бы. Вторая его попытка сделать то же самое
кончилась тем, что его ударили по голове бутылкой с зажигательной смесью, но,
слава богу, бутылка не загорелась. Тогда польские власти ему запретили сходить
на берег Канады.
1965 год. Я первый раз в своей жизни
получил позволение выехать за рубеж, на родину, в Польшу. Счастье мое состояло
в том, что моя жена к этому времени на каких-то международных тусовках
познакомилась с тогдашним главным редактором очень солидной и серьезной
польской газеты «Политика» Мечиславом Раковским. И он прислал приглашение. А он
к тому времени – член ЦК. А я работаю в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Меня приглашает член ЦК, ничего не поделаешь, придется отпустить.
Нехотя меня отпускают в Польшу. Мы приезжаем в Варшаву, живем в доме у
Раковского какое-то количество времени. Он в то время женат на знаменитой
скрипачке, она жива до сих пор, Ванда Вилкомирская. Живем у них, а потом
переезжаем к другому моему приятелю, журналисту из газеты «Штандарт Млодых»
Анджею Райзахеру. Он у нас в доме шел под кличкой Меняла – рай за хер. Живем у
него, и в один прекрасный момент он мне говорит: «Слушай, Боба, а давай поедем
в гости к теще?» Я говорю: «Куда?» Он говорит: «В Сопот». – «Как?» – «Да на
машине». Я первый раз за границей, да на машине 400 километров без всякого
догляду? И мы едем.
Мы едем через всю Польшу с бешеным
восторгом. Например, город Эльблонг, где местные художники, – а это город
металлургов, – делают памятники из отходов металлургических изделий. Другая
культура, невероятная совершенно. Подъезжаем к Сопоту, Анджей говорит: «Так, мы
едем к теще, пани Стефании. Она замужем. Ее муж – пан Михал. Пан Михал не
говорит о периоде 1939-45 ни слова, вот про этот период его не спрашивай,
потому что он замолкает и ничего не говорит».
1942 год, по главной улице Сопота, на
которой живет эта пани Стефания, едут машины с евреями в Освенцим. Мужчины
стоят по периметру грузовика, а женщины и дети сидят. На одном из поворотов
ребята выталкивают одного из них из машины. Он падает в кювет, валяется в
кювете, к ночи ползет к дому, скребется. Там одна пани Стефания. Она его
пускает дом и помещает его в подвал, где он до 1945 года и живет. Два
университета – варшавский и петербургский, интеллектуал абсолютный! Подарил мне
солженицынскую книжку первую.
Мы живем у них, в один прекрасный день пани
Стефания (оба говорят по-русски вполне прилично, она – так просто хорошо) мне
говорит: «Слушай, Борис, а ты не хочешь познакомиться с натуральным индейцем?»
– «Хочу!» – «Завтра поедем». Завтра садимся на машину и едем, невдалеке район
этот, называется Гданьск-Вжещ. Там три города – Гданьск-Сопот-Гдыня, это
фактически один город на побережье. Приезжаем, звоним, открывает дверь
двухметровый амбал, седой уже, с теми же голубыми глазами. Входим в дом,
садимся, разговариваем, он почти не разговаривает. Жена его – полька. Дали нам
выпить, какие-то палочки закусить. В один прекрасный момент он мне говорит:
«Слушай, Борис, а ты из России?» – «Так». «Слушай, Борис, а в России медведей
встречаешь?» Я говорю: «Да, так». – «А можно ли достать медвежью шкуру?» Я
говорю: «У меня лежит дома шкура – она твоя». Но вывезти мех из России в тот
момент было невозможно. «Хорошо, спасибо, я подумаю. Но шкура – моя?» – «Твоя».
Поговорили, поговорили. Мы ушли, еще помотались по Польше, больше месяца мы там
были и приехали в Москву.
Проходит какое-то количество времени –
телефонный звонок.
«Борис?». Я говорю: «Так, Борис». – «Это
Сат Ок». Когда мы там были, я видел маленькую седую старушку, которая ходила по
коридору, – это его мама была. «Такая проблема, я приезжаю в Москву». –
«Хорошо». – «Придешь на вокзал меня встретить?». Я приезжаю на Белорусский
вокзал, у меня 402-й «Москвич». У него – жена и два или три вот таких чемодана.
Как я их запихиваю в «Москвич», я не знаю. Я их привожу домой, на Кутузовку,
Люська там уже сварганила обед, накрываем на стол, я все время думаю, что
делать, потому что он огромный и жена не маленькая, я невелик, а Люся, покойная
жена моя, вообще была крохотная. У нас всего один диван в квартире, где мы
спим, больше у нас ничего нет, где спать.
Ну, посидели, поговорили, и я задаю ему
вопрос: «А зачем ты приехал?». Мы садимся за стол, я так осторожно начинаю
спрашивать: «Сат Ок, ты что приехал, какая у тебя проблема?» Он говорит: «Я вот
получил приглашение от какой-то дамы. И вот я по этому приглашению приехал». –
«Что за дама? Как мы ее найдем?» – «Вот там есть телефон». Набираю телефон,
говорю: «Здравствуйте, это говорит художник Борис Жутовский. Вот у меня Сат Ок
Суплатович…» Он Суплатовичем в Польше стал по фамилии матери. «Он приехал из
Варшавы, вы его приглашали». – «Где он?! Что вы?! Мы его ждем уже который день!
Столы накрыты!» – «Сейчас мы дообедаем и…» – «Нет, немедленно, никаких обедов!»
Мы дообедали, я, счастливый, погружаю его
со всеми чемоданами и еду. Проспект Мира. 9-этажная башня рядом с метро.
Поднимаемся, звоним в дверь. Дверь открывает дама седая, стриженая
по-комсомольски, в такой тряпке восточной, в тюбетейке. Она кидается к нему.
Входим. Огромная квартира, кругом ковры, на коврах – оружие, в большой комнате
дастархан накрыт на полу, и подушки. Мы садимся. Я шепчу: «Сат Ок, что все это
такое?». Он говорит: «Не знаю». Какие-то молодые люди бегают, постепенно усаживаются
за стол, немалое количество народа, непонятно – кто это, что это. Ни ему не
понятно, ни мне. Поднимается эта дама с бокалом и начинает произносить тост за
Сат Ока. Выяснятся, что она его сестра, та самая девочка, которую оставили в
приюте, когда маму привезли в Верный. Я мог бы сказать, что я ох…ваю, но не
могу, потому что у вас диктофон. У него на лице ничего совершенно.
Она произнесла тост, все пригубили, выпили,
он говорит: «Это невероятно! Тогда я вам сыграю». Достает из кармана вот такую железку
и начинает играть. Индейскую мелодию он мутызгает минут двадцать. Все слушают.
Она дальше объясняет, что она его разыскала и пригласила для того, чтобы
написать книжку об их судьбе. Мне она говорит: «Вы можете не волноваться, ему
заказана гостиница, он живет в гостинице, все в порядке. Вот вам его телефонный
номер в гостинице». По тем временам – все фантастически! Непонятно, как
организовано. Я говорю: «Сат Ок, шкура тебя ждет твоя. А как ты ее повезешь?» –
«Не волнуйся. Я сяду в поезд, расстелю шкуру, сяду на шкуру, одену свои перья
(с собой перья у него) и буду играть. А когда придет таможенник, скажу, что это
мой реквизит».
Ну, я понимаю, что мне надо уходить. Я
говорю этой даме, что мы будем делать книжку с одним условием, что оформлять
книжку буду я. Она говорит: «Конечно!» Они сделали книжку, я ее оформил, она
есть у меня.
Я собираюсь уходить уже, и какой-то молодой
человек говорит мне: «Боря, вы уезжаете?» – «Да». – Вы на машине?» – «Да». –
«Вы меня до метро не добросите?» – «Конечно!». До метро там десять шагов,
«Щербаковская» рядом. Мы оба выходим, садимся в машину, и он мне начинает
рассказывать. Перед этим я ему перво-наперво задаю вопрос: «Куда я попал? Что
это за дом?» – «Вы что, не знаете?» – «Если бы я знал, я бы не спрашивал». –
«Боря, это же старшая жена Расулова (первый секретарь Таджикистана)». Тогда мне
понятен характер приема, понятно, откуда она добралась до каких-то архивов и
что-то разыскала.
фото: Сат-Ок и
А.Расулова (Будкевич).
Дорогому Борису, ловцу сибирских
медведей. Москва, 2. 10. 1969 г. Сат-Ок
Ладно, теперь рассказывай твои проблемы». –
«Понимаете, Боря, я – русский из Душанбе. Я кончил школу, и мы с папой и мамой
решили, что я поеду учиться в Москву в университет. Я пошел в министерство
образования в Душанбе». Потому что тогда все республики имели квоты. Они ему
говорят: «Конечно, почему нет? Но решить это может только Расулов». Он идет к
Расулову. Вероятно, в провинции это так просто. Тем не менее, как он
рассказывает, Расулов его выслушивает и говорит: «Хорошо, не проблема, ты
поедешь учиться в Москву, но с одним небольшим условием. У меня тут младшая
дочка забеременела, ты на ней женишься и едешь в Москву». И его вопрос ко мне:
«Что делать?» Я ему говорю: 2Спокойно! Женись, учись, потом разведешься, нет
вопросов». – «Что, так просто?» – «Нормально. Ты в Москве, а не в Душанбе. В
Москве ты женишься, и в Москве ты разведешься». Мы расстались с ним.
Сат Ок через некоторое время звонит: «Я
уезжаю, давай, неси шкуру». Я принес шкуру прямо на вокзал, он сел в поезд и
уехал. Через некоторое время – телефонный звонок из Польши. Звонит пани
Стефания: «Боречка, я приезжаю в Москву». Я говорю: «Пани Стефания, не вопрос, живете
у нас». Она очень симпатичная, милая, такая журналистка провинциальной
курортной газетки, слегка разухабистая. Немолодая дама уже.
Живем в Москве, ГУМ, Мавзолей – мелкий
кавалерийский набор столичный. Потом она мне в один прекрасный момент говорит:
«Боречка, у меня есть одна проблема. До революции мы жили в Москве с
родителями, и вскоре после революции мы уехали во Львов. А потом, накануне
войны, мы уже переехали из Львова в Сопот, в тот дом, где вы и были. И я хотела
бы посмотреть этот дом». – «А где дом-то?». – «Площадь Александровская». – «Нет
такой площади». Она, наверное, до революции так назвалась. «А что там вблизи?»
– «Там недалеко была Бутырская тюрьма». – «Палиха?» – «Палиха, Палиха!»
Сели в машину, едем, приезжаем на Площадь
Борьбы. Она говорит: «Вот он, этот дом, вот этот подъезд, квартира 3». У меня
тут все застыло от холода. Сейчас поймете почему. Мы входим по этой лестнице, я
звоню в эту квартиру, открывает какая-то женщина, я объясняю, что дама, с
которой пришел, когда-то, до революции, жила тут, хотела бы просто посмотреть.
«Пожалуйста, заходите». Мы заходим в эту квартиру, она говорит: «Вот эта
комната!» И плачет. «А еще в туалете там была цепочка и фарфоровая ручка». –
«Сходите, посмотрите». Так оно и есть. Так в этой комнате с 1918 года по 1954
жила моя бабушка Марья Ивановна.
Я в этой комнате, как вы понимаете, и ручку
с цепочкой знаю, и черный ход. Вот такая история.
У меня в Гданьске есть дружочек,
познакомились мы с ним в 1957 году на фестивале. Он художник, теперь уже
профессор Академии художеств, когда-то он был в компании, был такой польский
театр «Бим-Бом», с этим они приехали в 1957 году на фестиваль. Это был
знаменитый театр, потому что там был Кобела, Цибульский, вся прелесть культуры
– все там были. И я с ним тогда познакомился. Я время от времени к нему в
Гданьск наезжаю. Давно не был, сейчас он болен, почти ослеп. В один из
приездов, набравшись как следует... А я приехал туда с выставкой. Выставка –
это очень хорошо, потому что я приехал с бумагой, с красками, с лаками и
картинки сделал у него в мастерской. Потом сделал выставку, потому что вывезти
картинки в те времена было невозможно... Ну, в один прекрасный пьяный разговор
я ему говорю: «Слушай, я хотел бы съездить в Сопот. Я в 1965 году был в Сопоте
в гостях. Я знаю, что пани Стефания и пан Михал умерли, дом они продали, но мне
все-таки хотелось посмотреть».
Мы едем, это теперь уже называется улица
Червоной Армии, 25. Мы приезжаем, останавливаемся, у калитки дома стоит амбал.
Я выхожу и ему говорю на корявом польском, что я здесь бывал, хотел бы зайти. И
в этот момент из дома выходит человек. Высокий, статный, в черном одеянии с
белым воротничком – ксендз. И так на меня с недоумением смотрит. Я ему начинаю
говорить. Он говорит: «Не вопрос. Прошу вас». Мы вошли в дом, посмотрели,
оглянулись – все другое. Красивый новый дом, ничего от старого не осталось. Мы
поблагодарили и ушли. Сели в машину. Влодек сидит как каменный. Отъезжаем. «Что
ты такой каменный? В чем дело?» – «Ты знаешь, что это за дом?» – «Нет». «Ты
что, не знаешь, кто это такой?» – «Откуда я знаю?» – «Это же ксендз Ярецкий!»
Главный ксендз «Солидарности»! Вот вам байка.
Боюсь соврать, но это было самое что ни на
есть противостояние с «Солидарностью», с Валенсой. Когда я там был, туда же приезжал
Раковский, к тому времени он в ЦК партии сидел, уже совсем большой чиновник
стал, он приезжал о чем-то с Валенсой дискутировать. И ночевал у нас с
Влодеком. Вот такая вот история.
© Copyright: Юрий Дым 61, 2015
Свидетельство о публикации №215052300414
© Все права принадлежат авторам, 2000-2018
Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Российского союза
писателей 18+
darina_sun
Jun. 6th, 2011 10:58 pm (UTC)
Здравствуйте!
Я - родственница Георгия Пашковского, жениха Станиславы Суплатович, с которым
она познакомилась в ссылке, и Антонины Будкевич (Расуловой), это моя бабушка.
Сат-Ок и моя бабушка, племянница Пашковского, написали вместе книгу «Дороги
сходятся». Подтверждаю, что вся эта история - не мистификация, а правда! Хоть
многие детали и утеряны:(
darina_sun
Jul. 4th, 2017 07:32 pm (UTC)
я
не знаю, зачем. Я многого не знаю, к сожалению. Семейная история говорит, что
она заблудилась. Найдите и почитайте книгу моей бабушки и Сат-Ока, «Дороги
сходятся». Возможно, там есть ответ. У меня книга, к сожалению, не сохранилась,
утеряна при переезде из Душанбе в Москву. И, по-моему, я не давала повода для
хамских обвинений.
Что-то в этом польско-семитском лице совсем
не проглядываются восточные черты: ни тунгусские, ни китайские, ни якутские ни
даже цыганские...
КЕЛЬЦЕ, ЗОФИИ СУПЛАТОВИЧ
Еще из поселка Святого Лаврентия она
послала на родину два письма.
Почта чукотских поселенцев почти не
подвергалась цензурному досмотру, полиция и жандармское управление считали, что
сосланные на полуостров не могут представлять серьезной опасности для империи.
Агитировать на берегу Ледовитого океана некого. Бежать некуда. Человек как бы
вычеркивался из жизни. И если кто-нибудь подавал голос из этой несусветной
дали, то голос этот значил не больше, чем стон погребенного заживо.
«Милая Зофия, дорогая моя сестренка! —
писала Станислава. — Я не знаю, когда дойдет до тебя это письмо и дойдет ли оно
вообще. И все же пишу с надеждой, что оно попадет в твои руки, что ты
прочитаешь его и постараешься понять, почему я попала сюда — к Полярному кругу,
на берег моря, девять месяцев в году скованного тяжелым льдом. Прошу тебя,
внимательно прочитай каждую строчку и только тогда суди меня по делам моим...
Ты, безусловно, помнишь все подробности
Варшавского процесса, помнишь, что меня и еще трех товарищей приговорили к
пожизненному поселению в отдаленных местах Российской империи. Мой приговор еще
усугубился тем, что во время процесса я якобы занималась пропагандой в зале
заседания суда. Поэтому меня сочли особо опасной и сослали не в Нерчинск,
Якутск и на Амур, как остальных, а на Чукотку...
Нас увели из здания суда под усиленным
конвоем и в ту же ночь в арестантском вагоне отправили в Россию. В Москве мы
около месяца провели в переполненной до предела Бутырской тюрьме. Даже в
одиночках помещалось иногда по три человека. Ежедневно формировались большие
группы кандальников, которых угоняли по этапу в глубь страны, но количество
заключенных, казалось, не уменьшалось, а все увеличивалось.
Наконец пришел наш день, вернее — ночь,
потому что этапники уходили из столицы под покровом темноты, чтобы не
возбуждать неугодных страстей у населения. Правительство было сильно напугано
размахом восстания.
Я не буду описывать путь, который мы прошли
большей частью пешком. Скажу только, что то был так называемый Владимирский
тракт, печальная Владимирка, дорога почти в тысячу верст длиной, которая вот
уже больше столетия слышит заунывный звон цепей и видит отчаянье и смерть.
Этап наш состоял из восьмидесяти человек,
десяти стражников и пяти подвод. На подводах везли больных и обессиленных. Я
старалась больше идти пешком. На подводу подсаживалась тогда, когда ноги
отказывали совсем.
Я была единственной женщиной во всем этапе,
и отношение ко мне со стороны сотоварищей можно передать двумя словами:
грубовато-ласковое. Я благодарна им. Они видели во мне не слабую женщину, а
единомышленника, соратника по борьбе.
За день мы продвигались самое большее верст
на двадцать. Ночевали в какой-нибудь деревне. Наскоро закусывали солониной, черствым
хлебом и валились спать. Меня обычно забирала на свою половину сердобольная
хозяйка, угощала вареным картофелем, молоком, иногда водила в баню.
Едва начинало светать, снова трогались в
путь, и так день за днем.
В Нижнем Новгороде переправились через
Волгу. Затем были Казань и Екатеринбург. Здесь начинался Сибирский тракт. На
пути лежали Тюмень, Омск, Томск... Я почти не запомнила этих городов. Они все показались
мне на одно лицо.
Омск встретил нас пышной зеленью тайги и
таким количеством комаров, что мы не знали, куда от них деться. Все открытые
части тела у нас вспухали от укусов и превращались в сплошную рану от расчесов.
Говорят, что лошади и коровы бесятся от этого и убегают в тайгу, где их
задирают волки. А бедные люди выдерживают все...
В Томске мы застали начало осени, а в
Нижнеудинске, — конец ее.
Здесь остатки нашего этапа разделили на
партии, которые должны были отправиться в Забайкалье и в Якутию.
Мой путь лежал через Ангару на Усть-Кут, и
дальше по реке Лене, через Ичер, Витим, Олекминск на Якутск. Из Якутска меня
должны были увезти еще севернее — в Анадырь, а оттуда — в поселок Святого
Лаврентия.
Из Усть-Кута до Якутска мы плыли на
плоскодонной лодке — шитике, в Якутске меня
пересадили на оленью упряжку, а из Средне-Колымска до места назначения
добирались на собаках.
Меня сопровождал пожилой жандарм, который
почти не разговаривал. Единственной его заботой было — не выпускать меня из
виду до самого конца пути, что он и делал со всем тщанием, на которое способны
службисты подобного рода.
Да, я забыла тебе сказать, что из всего
этапа в поселок Святого Лаврентия я направлялась одна...
Второе письмо она отправила в Кельце через
год.
«...Итак,
я — на Чукотке, в поселке, названном именем Святого Лаврентия. Два десятка
домиков на голой скалистой земле, на берегу Берингова пролива, вернее —
небольшой бухты, врезанной в берег. Ни деревца, ни куста окрест. Темные,
вылизанные морем камни, сопки-гольцы, с вершин которых даже летом не сходит
снег, низкое сумрачное небо. Иногда выдаются ясные дни, и тогда море из
темно-свинцового делается зеленым, но не ласковым, а, наоборот, оно как бы
становится глубже и холоднее. А камни из черных превращаются в серые.
Лето коротко — всего только два месяца
зеленеют мхи в тундре и из тощей земли выбиваются стрелки полярных лилий. Я не
знаю, как называются они по-научному, но они — единственные цветы здесь, и они
чудо как хороши!
На берегах ручьев, в местах, защищенных от
ветра, растет черемша. Листья ее очень похожи на ландышевые, только поуже, и
если растереть их пальцами, пахнут чесноком. Черемшу собирают и сушат на зиму.
Она помогает от страшной и распространенной здесь болезни — цинги.
Поселенцев, кроме меня, в поселке нет.
Может быть, поэтому местные отнеслись ко мне с большим сочувствием. Нет, они не
жалели меня, они просто считают, что мне не повезло, и, самое главное, что я в
поселке — гостья и не останусь здесь навечно. Это вселяет в меня веру в
будущее.
Да, сестра, я не думаю, что проживу здесь
остаток того, что отпущено мне природой. Но если так случится, то постараюсь
быть нужной этим людям.
А люди здесь замечательные. В поселке их
всего около ста. Это — охотники за морским зверем и рыболовы. Суровые, как их
земля, малоразговорчивые, сильные. Все они монгольского происхождения, живут в
постоянном тяжелом труде и привыкли довольствоваться тем малым, что могут им
дать эти безрадостные берега: С риском для жизни выходят они в море на утлых
лодочках, обшитых шкурой тюленя, вооруженные только острогами и копьями.
Мужеству их может позавидовать любой мужчина-европеец, но здесь оно незаметно,
потому что постоянно. Каждый день у них — это бой за жизнь.
Но из всех бед, поджидающих рыбака и
зверобоя в открытом море в начале зимы, самая страшная — шелкап. Я увидела, что
это такое, через три недели после приезда сюда.
Шелкапом зовут здесь северный ветер. Он
рождается в угрюмых горных распадках в глубине материка и ураганом обрушивается
на побережье. В это время ночь наступает на два часа раньше срока. Все живое
старается спрятаться, уползти, затаиться. Даже птицы исчезают неведомо куда.
Температура стремительно падает до минус двадцати — двадцати пяти. И начинается
ад.
До
самого горизонта море, до этого затянутое белой пеленой молодого льда, в
считанные минуты превращается в серое ледяное крошево. Тяжелые волны с каждой
минутой становятся все выше, воздух все темнее, и вот уже ничего не слышно
кругом, кроме безумного воя, скрежета ломающегося берегового припая, ударов,
похожих на пушечные выстрелы, и грохота раскалывающихся камней. Небо
смешивается со снежной кашей, кипящей внизу, и только бледно-желтая полоса
тревожного, призрачного света слабо мерцает, обводя горизонт.
Десять, пятнадцать, двадцать часов
продолжается этот шабаш. Скалы на берегу покрываются толстой ледяной корой. Под
тяжестью быстро намерзающего льда рушатся постройки и, кажется, проваливается
сама земля. И вдруг все кончается. Утихают бешеные скачки волн. Светлеет небо.
Открываются бледные, оледеневшие дали. Низкое солнце озаряет все белесым,
болезненным светом. Лишь ветер продолжает дуть режущими порывами еще несколько
дней. Говорят, что даже такой большой поселок на побережье, как Охотск, шелкап
разрушал начисто трижды.
Вот в таких условиях живут аборигены
Лаврентия.
Мне построили хижину, такую же, как у всех.
Это — яма, вырытая в земле, накрытая сверху бревнами, выброшенными на берег
морем. На бревна положены нерпичьи шкуры, и все это засыпано мелкими камнями. В
углу оставлено отверстие для выхода дыма от костра. В жилище надо вползать на
коленях, но зато никакие штормы ему не страшны. Женщины сшили мне одежду по
местной моде и подарили спальный мешок из собачьего меха. Мне принадлежит общая
доля в добыче.
Я пытаюсь ответить добротой на доброту. В
поселке одиннадцать детей от пяти до двенадцати лет (тринадцатилетние считаются
здесь уже взрослыми и работают так же, как их родители). В своей землянке я
устроила нечто вроде школы. Деревянными колышками прибила на стену нерпичью
шкуру гладкой стороной наружу. Это — доска. На ней я пишу углем буквы и цифры.
Мои ученики старательно перерисовывают их в «тетради» — обожженными палочками
на замшевую сторону выделанных заячьих шкурок. Ты не представляешь, как
сообразительны маленькие чукчи и как внимательны они во время занятий!
Я всей душой полюбила чукчей. Это небольшой
народ, но такой отважный, суровый, сильный. И горько смотреть на то, что
сделала так называемая «цивилизация» с этим краем!
До
прихода русских купцов на Чукотку здесь царили примитивные, но мудрые нравы.
Например, ни один человек не имел права владеть большим, чем ему нужно было для
жизни. Они не знали, что такое «твое» и «мое». Все делилось поровну между
членами племени.
Но
вот пришли «цивилизованные» купцы. Они принесли с собой заразные болезни, вроде
туберкулеза и трахомы. Затем познакомили туземцев с водкой. И, наконец,
растлили их души, научив повадкам белого человека.
Чукчи и раньше были знакомы с голодом,
теперь же, вступив в «торговые» отношения с купцами, голодали почти круглый
год. Если они пробовали протестовать, их укрощали свинцом.
Да и только ли русские! Чукчи хорошо знают,
что такое доллар и что такое обман. Весной в наш поселок заехал купец Караваев,
скупавший пушнину на побережье. К моему удивлению, он очень сносно говорил
по-английски. Когда я спросила его, где он научился языку, он сказал, что ему
все время приходится иметь дело с иностранцами. Оказывается, на мысе
Сердце-Камень обосновался норвежец Волл. В поселке Эмма стоит торговый склад
австралийца Карпендаля. Рядом с ним ведет свои дела американец мистер Томсон.
Караваев обещал познакомить меня с этими людьми, намекая, что они могли бы
облегчить мою жизнь здесь. Я отказалась. Я не хочу быть в числе тех белых, в
которых чукчи видят потенциальных убийц. По мере сил своих я стараюсь дать
понять своим местным друзьям, что во всех их бедствиях виноват не русский
народ, который задавлен той же самой силой, а самодержавная власть.
В солнечные дни, которых здесь выдается
очень мало, из нашей бухты открывается вид на необозримые дали. Волны, волны,
волны кругом... Холодные, равнодушные ко всему на свете. А зимой —
голубовато-белые торосы и давящая, глухая тишина. Трудно думать об этих
пространствах. Невыносимо представлять, как далека я от своих товарищей и
друзей. Кричи, плачь, проклинай — тебя никто не услышит, кроме океана и неба.
Им нет дела до жизни людей. Можно сойти с ума от тоски и отчаянья. Я нашла
утешение в своих учениках. Ты удивилась бы, увидев, с каким старанием они
выписывают буквы русского алфавита на замше заячьих шкурок!
От одного охотника-зверобоя я услышала, что
на северо-восток от нас, почти посредине Берингова пролива, лежат острова
Диомида, меньший из которых находится совсем недалеко от Аляски...»
Станислава не написала Зофии, что местные
жители часто переправляются по установившемуся льду на собачьих упряжках через
пролив и закупают продукты и боеприпасы на американских факториях. Не написала
и то, что Аляску и Чукотское побережье разделяют здесь всего сто семь верст.
/Николай
Внуков. Слушайте песню перьев. Повесть.
Ленинград. 1974. С. 42-45, 47-49./
Наталия Курчатова
25
июля 2017
2 158
ИНДЕЙЦЫ АРМИИ КРАЙОВОЙ
Как Польша придумала красный вестерн
Индейцы в СССР были популярны. Советские
школьники зачитывались книгами Фенимора Купера или «красными вестернами»
польского производства. Литературный критик Наталия Курчатова рассказывает
историю самого известного польского индейца, Станислава Суплатовича.
Тема живописной жизни и борьбы
североамериканских индейцев с колонизаторами, щедро представленная в литературе
и кино, отчасти затмила и даже вытеснила в сознании людей европейской
цивилизации все иные аборигенные темы: ирокезы, могикане и команчи стали как бы
представителями различных архаических культур — от аборигенов Австралии до
многочисленных народов черного континента и сибирских аборигенов, перед лицом
узко понимаемой цивилизации. Причем подобное замещение начало происходить как
задолго до, так и помимо Голливуда стараниями писателей вроде Генри Лонгфелло
или Фенимора Купера, а в двадцатом веке для детей и подростков из СССР и стран
Восточной Европы был создан по-своему цельный и своеобразный мир «красного
вестерна».
Интересно, что основную роль в его
появлении сыграли представители народов с собственным богатым опытом борьбы за
независимость: от «главного киноиндейца стран Варшавского договора», югослава
Гойко Митича, до знаменитого индейскими романами и живописной биографией
«польского шауни» Сат-Ока и несколько менее популярного прозаика Альфреда Шклярского,
также уроженца и патриота Польши.
Популяризации этого любопытного феномена
индейской литературы с польскими корнями в СССР способствовали не только
выходившие огромными тиражами переводы «Земли соленых скал» Сат-Ока или трилогии
Шклярского «Золото Черных Гор» (в соавторстве с женой Кристиной) про
индейцев-дакота, но также и байопик Николая Внукова «Слушайте песню перьев» про
жизнь Сат-Ока, с одной стороны — не уступающий в достоинствах творчеству
протагониста, с другой — закрепивший в сознании армии читателей одну из
выдающихся литературных мистификаций двадцатого века.
Именно из книги Внукова большинство
советских школьников узнали историю удивительного человека: Сат-Ок, или Длинное
Перо, сын индейского вождя, вырос в лесах Канады, затем попал на землю своей
матери — в Польшу, в годы войны был арестован гестапо, бежал, стал героем
Сопротивления, а потом автором замечательных детских книг. Да и сейчас
переиздания индейских повестей Сат-Ока и его биография разлетаются моментально,
а родительские форумы и сообщества книголюбов полны восторженных отзывов.
Индеец в плену Гестапо
Сат-Ок в переводе с языка шауни означает
«Длинное Перо». Под обложкой томика с предисловием Льва Кассиля — две небольшие
повести: «Земля соленых скал» и «Таинственные следы». Вместе с их героями
советский школьник проходил путь от ребенка до «молодого волка» из лагеря
Мунгикоонс-сит. И после сурового посвящения на празднике Тану-Тукау он становился
охотником и воином, готовым к защите родной земли.
А может, ты не советский школьник, а ученик
интерната в тревожной довоенной Польше, стране, что после нескольких веков
обрела независимость, которую спят и видят отобрать могущественные соседи? К тому
же ты чувствуешь себя оставленным, чуть ли не забытым, мама навещает тебя
изредка, вечно занятая своими делами? А еще ты мечтателен и уже проглотил
«Песнь о Гайавате» и много других подобных книг — да попросту все, что нашлось
в библиотеке интерната. И вместо стен казенного заведения у тебя перед глазами
все чаще встают бескрайние леса Северной Америки, зеркальные озера и быстрые
реки, из которых серебряными молниями выпрыгивают форели, а также твоя
индейская семья — отец (он, разумеется, великий вождь), мама (его любимая
жена), мужественный не по годам старший брат, нежная и заботливая сестра и
лучший друг, с которым ты уже прошел немало охотничьих троп и имя которого
Неистовая Рысь!
«Слушайте песню перьев» — так называется книга
Николая Внукова о Сат-Оке, где главы о борьбе с фашистами в польском
партизанском отряде чередуются с эпизодами индейского детства и юности. В
Борковицких лесах, что под Енджеювом, Свентокшиское воеводство, Южная Польша,
сражается странный хлопец, который ездит на лошади без седла, автомату
предпочитает лук и стрелы, а в лесу чувствует себя как дома. Товарищи по оружию
называют его кто Стасем, кто Казаком — за удивительные навыки верховой езды, но
сам он зовет себя Сат-Оком из земли Толанди за Большой Соленой Водой. Как
природный индеец попал на землю Польши, да еще в столь драматичное время?
Почему у него несколько имен? В конце концов, почему у него светлые волосы, по
обычаю племени отпущенные до плеч, которые в застенках гестапо тюремщики
вырывали с корнем целыми прядями, из-за чего товарищам по заключению пришлось
обрить Сат-Ока заточенной ложкой?
Детским сознанием вся эта удивительная
история со многими неизвестными воспринималась с восторгом, ужасом и полной
верой. Лишь много лет спустя, заинтересовавшись героем, случайным образом
определившим кое-что в самом начале твоей жизни, узнаешь, что в превосходно
написанной книге Внукова содержится как минимум одна серьезная неправда —
партизанский отряд, в котором воевал Сат-Ок, принадлежал не к прокоммунистической
и в дальнейшем просоветской Гвардии Людовой, а к Армии Крайовой, которая
подчинялась польскому правительству в изгнании и к СССР относилась с
настороженной враждебностью — впрочем, имея на то свои основания. Более того,
как и многие участники «националистического подполья», — кавычки здесь
достаточно условны, поскольку Армия Крайова никогда не скрывала своего курса и
даже производила этнические чистки украинского населения в ответ на зверства
бандеровцев, — Сат-Ок после Победы был репрессирован и провел несколько лет уже
в качестве узника в социалистической Польше, ему не помогла даже революционная
биография матери. Но там, где одна ложь, натяжка, художественный вымысел, там,
возможно, и вторая, и третья. Давайте попробуем начать с начала — то есть с
момента, когда Станиславу Суплатович, молодую подданную Царства Польского
Российской Империи, обвиняют в хранении запрещенной литературы и посягательство
на изменение существующего строя и приговаривают к далекой ссылке.
Станислава, или
Белая Тучка
«…Станислава остановилась на берегу
замерзшего ручья. Снег продолжал валить крупными хлопьями, засыпая весь мир.
Ничего не было видно в десяти шагах. На мутном сером фоне белыми точками
мелькали снежинки. Иногда, вместо того чтобы падать вниз, они летели вверх,
подхваченные порывами ветра. Тысячи иголок покалывали лицо. Кожа на щеках
стягивалась от морозного жара. Пальцев на ногах она уже не чувствовала…» — так
описывает Николай Внуков конец путешествия Станиславы Суплатович по северу
Американского континента и начало ее жизни в племени шауни. Но каким же образом
хрупкая европейка оказалась одна среди канадской тайги, в тысячах километров от
дома?
Мать Сат-Ока родилась в старинном городке
Кельце у подножия Свентокшиских гор (Гор Святого Креста), что в центральной
Польше, около 1880 года. А своего супруга из племени шауни встретила незадолго
до своего тридцатилетия в лесах Канады, на берегах Большого Медвежьего озера.
О жизни Станиславы Суплатович до ареста
известно немногое; у Николая Внукова читаем, что Станислава служила
учительницей русской и польской словесности в Келецкой женской прогимназии, а
также состояла в СДКПиЛ — Социал-демократии Королевства Польского и Литвы,
видными деятелями которой были Роза Люксембург и Феликс Дзержинский. Партия
выступала за свержение царизма и установление политических и экономических
свобод, в том числе за свободу Польши от власти Российской Империи, и была
довольно радикальной — с началом революции 1905 года стала применять террор как
«тактическое средство», а в 1906-м влилась в РСДРП на правах самостоятельной
организации.
В начале 1906 года Станислава была
арестована, при обыске жандармы нашли у молодой учительницы небольшую
библиотечку запрещенной марксистской литературы. «Отказ от сотрудничества со
следствием», как бы сейчас сказали, а также вызывающее поведение на процессе,
который происходил в Варшаве, — Станислава выступила с защитительной речью,
которую сочли пропагандой, — усугубили приговор, и двадцатишестилетнюю девушку
сослали на вечное поселение на Чукотку.
Предположительный портрет Станиславы Сулпатович
Изображение: the-indians.narod2.ru
В качестве места поселения во всех
источниках фигурирует поселок Лаврентия — чукотская рыбачья деревенька на южном
берегу залива Лаврентия (не путать с заливом св. Лаврентия, что в Канаде).
Название дал легендарный капитан Джеймс Кук, корабль которого в 1778 году вошел
в залив в день празднования этого святого. Поселение Станиславы в поселке
Лаврентия — первый пункт сомнений для скептиков, ведь согласно общепринятой
истории, поселение было основано… в 1927 году, когда советские власти открыли здесь
чукотскую культбазу. Сомнительно? Да. Впрочем, с одной оговоркой — странно было
бы затевать культбазу на пустом месте; вот и в истории села Лаврентия
говорится: основано на территории нескольких небольших рыбачьих поселков.
И даже здесь, в буквальном смысле на краю
земли, молодая женщина находит себе занятие — начинает учить чукотских детей
русскому языку и арифметике. Доской служит шкура нерпы, мелом — обожженные
палочки, вместо тетрадей — кусочки заячьих шкурок. А еще Станислава неожиданно
находит здесь уклад, близкий ее мечтам о справедливом устройстве общества, —
своего рода первобытный коммунизм, не знающий понятий «твое» и «мое». И с
горечью отмечает, как под влиянием русских, американских и норвежских
промышленников в этот суровый доисторический рай проникают алчность, болезни, а
также бич коренных народов — алкоголь. Но более всего гордую и деятельную
польку гнетет сознание того, что она находится в тюрьме — пусть у этой темницы
нету стен и решеток, а также оторванность от товарищей и революционного дела. И
вскоре она решает бежать из места ссылки.
Побеги «политических» из ссылки в начале XX
века были предприятием дерзким, но при этом вполне традиционным — по всей
Сибири существовали коммуны и артели взаимопомощи, многочисленные явки и укрытия,
в Иркутске одно время действовало даже паспортное бюро, находившееся в руках
меньшевиков и снабжавшее товарищей по партии поддельными документами.
Революционеры бежали по одному и группами: Инессе Арманд удалось ускользнуть из
Мезени, Лев Троцкий бежал из ссылки дважды, оба раза прикинувшись больным и
оставив вместо себя чучело в кровати, а Сталину удалось провернуть этот фокус
аж пять раз.
Правда, в случае Станиславы Суплатович
ситуация осложнялась тем, что на краю географии, куда ее забросило, связаться с
товарищами казалось делом почти невозможным. Поэтому выход был один —
прибегнуть к помощи аборигенов. Станислава знала, что чукчи часто перебираются
через Берингов пролив и закупают в американских факториях продукты и патроны.
Так было выбрано направление побега — на американский континент, где она
надеялась добраться до крупного города, войти в контакт с местными социалистами
и уже оттуда уплыть на пароходе в Европу. План кажется совершенно безумным, но,
наверное, не более чем сам жизненный выбор молодой красивой женщины — пойти в
революцию, а затем в бессрочную ссылку за свои убеждения.
Некоторый вопрос у исследователей вызывает
сама возможность перебраться через Берингов пролив по льду. Дело в том, что
несмотря на крайне суровые полярные зимы, лед в проливе редко устанавливается
от и до: сильное течение то и дело взламывает его, образуя области зыбкого
крошева, а то и пространства открытой воды, которые, правда, быстро сковывает
жгучий мороз, превращая в черный нилас — гладкий, как стекло, лед, по которому
нельзя идти на лыжах или нартах. Впрочем, уже в недавний период было
зафиксировано два перехода Берингова пролива зимой — отцом и сыном Шпаро в 1998
году, а потом англичанином Карлом Бушби и американцем Дмитрием Кифером в
2006-м, которые даже были оштрафованы за нарушение российской границы, так как
промахнулись мимо пункта пограничного контроля в поселке Провидения. Можно
предположить, что совершенное современными путешественниками проделывали и
коренные обитатели этих мест.
Маршрут Станиславы пролегал через Берингов
пролив и острова Диомида, между которыми проходит линия перемены дат —
российский маршрут Ратманова и американский Крузенштерна на Аляску, затем до
реки Коюкук и по ней к форту Юкон, далее по реке Юкон до канадской границы. Учитывая,
что конечной целью поначалу был порт Принс-Руперт на побережье Тихого океана,
Станислава или ее проводники из индейского племени тлинктов сильно забрали на
северо-восток. Так или иначе, к началу 1908-го, после почти года пути из бухты
Лаврентия, Станислава оказалась в окрестностях реки Маккензи. Одна, оставленная
последними индейскими проводниками, то ли по беспомощности, то ли по суровым
местным законам, запрещающим членам одного племени входить в охотничий ареал
другого. Там она и встретила своих шауни, или, как говорится у Сат-Ока, —
шеванезов, маленькое кочующее племя последних индейских сопротивленцев,
ограничивших себя в контактах с белыми завоевателями и много лет скрывающихся
от них в лесах Канады, не желая идти в резервацию.
Тут возникает еще одна загадка: на первый
взгляд совершенно непонятно, как шауни (Shawnee) оказались на севере Канады.
Это могучее племя в незапамятные времена обитало на Восточном побережье и
Среднем Западе нынешних США, под давлением колонизаторов откочевало дальше на
запад и стало одним из племен Великих равнин, которых также называли
индейцами-кентаврами за то, что они в совершенстве освоили верховую езду и
успешно пользовались этими навыками в войнах с бледнолицыми. Легендарным вождем
шауни был Текумсе, или Падающая Звезда, который объединил разные племена в пору
англо-американских войн начала XIX века; Сат-Ок называет его своим прадедом. К
началу же века XX шауни были разбиты и вместе с большинством индейского
населения востока США переселены в резервацию в Оклахоме, где и по сей день
зарегистрированы три «федерально признанные» группы этого народа общей
численностью не более четырнадцати тысяч человек. Откуда же взялось маленькое
обособленное племя шауни в Канаде в то время, когда на всей территории
североамериканского континента индейский вопрос был так или иначе закрыт, —
путем помещения в резервации или недружественной ассимиляции?
Итак, зимой 1908 года совет племени
принимает белую женщину, лежащую в беспамятстве в типи молодой вдовы
Ва-пе-ци-сы, как свою бессрочную гостью. Шауни стараются не иметь никаких
контактов с белыми, за исключением неизбежных стычек с людьми Вап-нап-ао —
Белой Змеи, жестокого сержанта Королевской Конной и персонажа книг Сат-Ока.
Кажется, Станислава Суплатович после всех мытарств прибежала из одного
заточения в другое: из поселка чукчей на берегу ледяной бухты в лесной лагерь
шауни на берегу Большого Медвежьего озера, откуда нет дороги ни в Принс-Руперт,
ни в Оттаву, ни даже за океан, в родную Польшу. Но почему-то ее это совершенно не
гнетет, более того — она наконец чувствует себя на своем месте, в сообществе
стихийных первобытных коммунистов, которые делят всю добычу по потребностям, не
забывая стариков, вдов и сирот, а также ведут непрестанную борьбу с миром
чистогана, в том числе и силой оружия. Вскоре Станислава Суплатович получает
индейское имя Та-ва — Белая Тучка, а затем и первую шкуру гризли, огромного
серого медведя. Это не простой подарок, это дар любви, и преподнес его (пока —
тайно) сам Лео-карко-оно-маа, Высокий Орел, суровый вождь маленького племени.
«…Воин, который выходит в одиночку на бой с
серым медведем и приносит шкуру к типи женщины, считается женихом этой женщины,
если она принимает подарок. Ты приняла подарок любви, Та-ва. Знала ли ты этот
обычай?» В положенный после целомудренного ухаживания срок Та-ва входит в типии
Высокого Орла, становится его женой. У них рождается трое детей — сын Танто,
дочь Тинагет и младший, Сат-Ок. Он появляется на свет в 1920 году, его матери
на тот момент около сорока лет, но она все еще чудно хороша собой.
За большой соленой водой
Около 1936 года Сат-Ок, его брат Танто и
побратим Неистовая Рысь встречают на охоте трех чужаков, вступивших в опасную
схватку с гризли, один из них оказывается польским иммигрантом в Канаде по
имени Анджей. Мать Сат-Ока проводит много времени в разговорах с
соотечественником, потихоньку вспоминая родной язык, а еще она узнает, что
мечта ее молодости осуществилась — Польша обрела независимость. С разрешения
вождя племени и отца семейства Сат-Ок под именем Станислав Суплатович и его
мать отправляются в Польшу в канун Второй мировой войны.
Дальнейшая история выглядит так: по
прибытии Станислава поселяется в родном городе и отдает сына в интернат для
обучения польскому языку. После по меньшей мере года пребывания в интернате,
подтвержденного документально, Сат-Ок устраивается работать на почту, где
сближается с кружком коммунистической молодежи. Сама пани Суплатович чувствует
разочарование в польских реалиях, далеких от ее идеалов справедливого
устройства общества, и вскоре входит в контакт с социалистами. А когда в 1939-м
немецко-фашистские войска оккупируют Кельце, она устраивает в квартире, которую
снимает вместе с сыном, тайник за фальшивой стенкой, где прячет преследуемых
новым режимом сограждан-евреев.
Этот кусок жизни Станиславы и ее сына
выглядит настолько невероятно для гостей из Канады, которых в индейских лесах
ожидает семья, что Николай Внуков в своей биографической книге снова смешивает
карты и поселяет Станиславу в гостиницу, а основанием для ее ареста называет
купленные в подарок Высокому Орлу и Танто бельгийские ружья, а также давнее
дело пани Суплатович, на основании которого она должна находиться в бессрочной
ссылке.
Как
бы то ни было, мать и сын оказываются в руках нацистов; Станислав-Сат-Ок
называется индейцем, и его как «человека нечистой расы» отправляют в Освенцим.
По дороге ему вместе с товарищем, поляком Яном Косовским, удается бежать: они
выламывают несколько досок из пола теплушки и соскакивают с поезда на полном
ходу. Так он оказывается в Борковицких лесах, в отряде (так у Внукова) капитана
Красной Армии Савелия Францевича Лесниковского по прозвищу «капитан Ленька». И
вот здесь в противоречие с версией биографа вступают не только здравый смысл,
но и история с географией. Дело в том, что Сат-Ок, или Станислав Суплатович,
был арестован в Кельце в 1940-м, скорее всего в том же году (фашисты в таких
зловещих делах обычно времени не теряли) отправлен в Освенцим, находящийся на
юго-западе от Кельце, в районе города Енджеюв бежал и оказался в партизанских
лесах. Савелий же Лесниковский попал в окружение в августе 1941-го, а его
партизанский отряд им. Чапаева действовал в Житомирской области, то есть почти
в семистах километрах от Енджеюва, на территории Украины. И даже если
предположить, что Лесниковский имел какие-то контакты с польским сопротивлением
и Гвардией Людовой, подчиняться ее командирам он никак не мог, так как
подчинялся, вообще говоря, разведотделу Первого Украинского фронта.
При этом участие Суплатовича в партизанском
движении сомнению не подлежит, коль скоро он даже отсидел за пребывание в Армии
Крайовой в советском лагере, да и в фильме 2005 года «Прирожденный воин»
содержатся прижизненные интервью не только Станислава, но и его товарищей по
партизанскому отряду.
После войны и нескольких лет, проведенных в
заключении, Станислав Суплатович вступает матросом в торговый флот, женится и
поселяется в Гданьске. И только в 1958 году выходит в свет его первая книга —
«Земля Соленых скал», которую он подписывает индейским именем Сат-Ок — Длинное
Перо. Нельзя не отметить литературный характер этого имени (или все-таки
псевдонима?) — помимо «пера», испокон веков являющегося в европейской традиции
символом поэтического творчества, прилагательное «длинный» прозрачно отсылает к
имени автора «индейской Эдды», «Песни о Гайавате», созданной, как известно,
совершенно бледнолицым потомком выходцев из Йоркшира — Генри Уодствортом
Лонгфелло, чья фамилия может быть буквально переведена как «длинный парень».
Так что же, все-таки мистификация?
Красный
вестерн
В пользу версии о вдохновенной сказке
говорит очень и очень многое, так что, судя по всему, придется вернуться к
истории мальчика в интернате — не менее трогательной и поэтичной — и смириться
с тем, что дело обстояло следующим образом: Станислава Суплатович не бежала из
ссылки в Америку, а попросту уехала с поселения после революции или даже
раньше, женщин в Российской Империи зачастую амнистировали по тем или иным
поводам. Возможно, она и на Чукотке-то никогда не была: если активную участницу
революционных событий Инессу Арманд сослали в Архангелогородскую губернию, то
вряд ли рядовую польскую социалистку, даже не бомбистку, отправили дальше
Вологды.
В 1920-м у нее родился сын, который
воспитывался в интернате, — возможно, именно тогда, тоскуя по семейному теплу и
зачитываясь книгами про индейцев, маленький Стась придумал себе индейскую
семью: сурового и благородного отца Высокого Орла, мужественного старшего брата
Танто, заботливую сестру Тинагет и лучшего друга и побратима Неистовую Рысь. А
в годы войны мать и сын так или иначе оба имели отношение к Сопротивлению и
были арестованы. Юношеское увлечение паренька индейской культурой помогло ему в
партизанском отряде, а уже взрослым мужчиной, начав сочинять свои индейские
повести, он решил продолжить игру про сына вождя и правнука прославленного
Текумсе, защищавшего свою землю от жестоких завоевателей, — тем более что тема
эта была особенно близка недавнему партизану, а затем и узнику лагеря в
советской Польше.
История могла так и остаться чисто
литературной забавой, если бы не возникший в начале шестидесятых годов запрос
на «красный вестерн», популярность в Восточной Европе фильмов с «главным
индейцем стран Варшавского договора» Гойко Митичем и тому подобные дела. И тут
уже подключились пропагандистские ресурсы социалистического блока — вплоть до
выправки новых документов и создания беллетризованной биографии за авторством
выдающегося детского писателя Николая Внукова. Благодаря литературному
дарованию обоих — Суплатовича и Внукова — в СССР и Польше возник настоящий
культ Сат-Ока, в Гданьске был открыт музей, проводились встречи с читателями, и
любые нападки скептиков разбивались об энтузиазм многочисленных поклонников. С
легкой руки Сат-Ока в Польше и Советском Союзе возникло и укрепилось движение
индеанистов, существующее и поныне.
В пользу этой версии говорит и удивительно
похожая история писателя Альфреда Шклярского — действительно родившегося в
Америке сына польского иммигранта, вместе с семьей вернувшегося в независимую
Польшу и принимавшего активное участие в Сопротивлении на стороне Армии
Крайовой, в том числе и в ходе печальной известности Варшавского восстания.
Что, впрочем, не помешало ему печататься в «Курьере варшавском», выходившем
«под немцами». За участие в этом признанном коллаборационистским издании он и
был после осужден на восемь лет, а после освобождения, как и Сат-Ок, стал
детским писателем, автором цикла о приключениях Томека в экзотических краях, а
также исторической трилогии о борьбе индейцев-дакота с белыми завоевателями
(вместе с супругой Кристиной).
Нетрудно представить, что именно задевало
обоих авторов в теме борьбы краснокожих с бледнолицыми оккупантами; куда
любопытнее другое — какова же была уверенность в себе социалистической системы,
что она умудрилась даже своих оппонентов поставить на столь ответственный
участок культурно-идеологического фронта и, как ни крути, использовать их
таланты на полную катушку. Причем, как в случае с Сат-Оком, не чураясь и
совершенно фантастической, пусть и весьма артистичной, литературной
мистификации.
Польский индеец Сат-Ок
Фото:
Henryk Pietkiewicz/www.sat-okh.art.pl Flip
©
Горький Медиа,
Все права
защищены. Частичная перепечатка материалов сайта разрешена при наличии активной
ссылки на оригинальную публикацию, полная — только с письменного разрешения
редакции.
Сетевое издание «Горький» (gorky.media)
зарегистрировано в Роскомнадзоре 30 июня 2017 г. Свидетельство о регистрации Эл
№ ФС77–70221.












































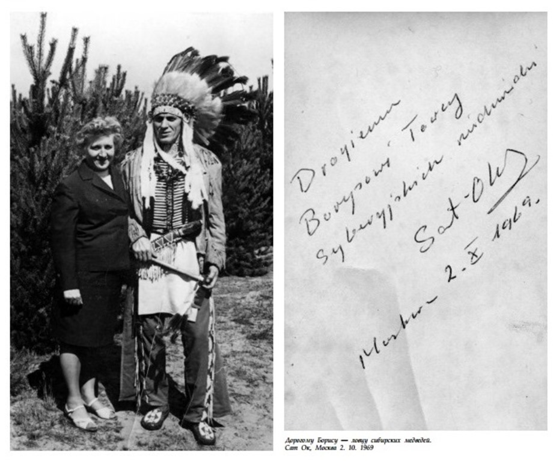















Brak komentarzy:
Prześlij komentarz