Алексей Станиславович (Степанович) Белевский (Бѣлевскій) - род. 17 (29) марта 1859 г. в поместье Шеды Горецкого уезда Могилевской губернии Российской империи, в дворянской семье. В 1869-1874 г. Алексей учился в Могилевской мужской гимназии, затем в Полоцкой военной гимназии, а в 1876 г. поступил в Петровско-Разумовскую земледельческую академию, находящуюся в селе Петровское-Разумовское, связанное с Москвой железной дорогой. В Москве Алексей знакомиться с дворянкой Тверской губернии Екатериной Иогансон, которая впоследствии оказала на него значительное влияние. В 1879 г. Белевский был привлечен к дознанию при Московском жандармском управлении и в июне 1879 г. выслан под гласный надзор в Вологодскую губернию, затем был переведен в Мезень Архангельской губернии, а в ноябре 1881 г. в Мариинск Томской губернии. Постановлением Особого совещания от 21 февраля 1884 г., ему было разрешено переехать в Могилевскую губернию, а 1889 г. он сдал испытание на магистра сельского хозяйства. Осенью 1894 г. Белевский вошел в состав «Группы народовольцев», в которой уже находилась Екатерина Иогансен, успевшая в краткосрочном замужестве стать Екатериной Прейс. В мае 1896 г. Белевский снял вместе с Прейс в дачном поселке Лахта, под Петербургом, дачу и разместили там типографию. 24 июня 1896 г. Белевский, как и Прейс, был арестован и после двухлетнего тюремного заключения выслан под гласный надзор в Восточную Сибирь на 8 лет Из Красноярска Белевский обратился с прошением о водворении его в одном месте с Екатериной Прейс и 6 февраля 1900 г. они были доставлены в окружной город Верхоянск Якутской области, где у них родилась дочь Евгения. В 1901 г. Белевский был переведен в Якутск, где был допущен к занятиям в Совете сельскохозяйственного общества по разработке плана борьбы с кобылкой, а в 1902 г. временно допущен к исполнению обязанностей областного агронома и в том же году выехал в Енисейскую губернию. Проезжая по Якутскому тракту через Верхоленск Белевский послал. в газету «Восточное обозрение» 2 сообщения «Из Верхоленска», подписав их псевдонимом «Бѣлоруссъ». По манифесту 11 августа 1904 г., Белевский был освобожден от гласного надзора без ограничения в выборе места жительства и занялся литературной деятельностью, а свои произведения стал подписывать псевдонимом «Бѣлоруссовъ», который вскоре трансформировался в фамилию. В 1908 г. Белевский, опасаясь ареста, уехал из Российской империи, и стал оттуда присылать в российские издания свои корреспонденции. Вернувшись в Россию после Февральской революции 1917 г., Белевский вошел в бюро «Совета общественных деятелей», а в 1918 г., как представитель подпольного Московского Центра («Правый Центр»), выехал на Дон, где входил в «Совет» при генерале Корнилове. Во время «Государственного совещания» осенью 1918 г. в Уфе, Белевский вошел в состав временного правления «Национального Союза», который стоял за единоличную диктатуру. Затем выехал в Сибирь, где участвовал в политической деятельности при А. В. Колчаке. Был членом кадетской Партии Народной Свободы. В Екатеринбурге издавал газету «Отечественные ведомости». 3 сентября 1919 года Алексей Белевский скончался в Иркутске и был похоронен на Иерусалимском кладбище, которое со временем было ликвидировано.
Сяргейя Прейс,
Койданава
Бѣлоруссовъ.
Въ Старомъ Домѣ.
Разсказы. Воспоминанія. Размышленія.
Москва — 1908.
*
МОСКВА,
Tип. «Печатное Дѣло», бывш. Ф. Я. БУРЧЕ, Тверской б., д. Яголковскаго, 1908.
*
В СТАРОМ ДОМЕ
Ум наш слаб, и потому слова и понятия, — эти условные знаки мысли, — заслоняют от нас мир.
Два отдельных слова, — жизнь и смерть, — и два им соответствующих понятия, кладут несуществующую грань между царствами живых и мертвых, грань, по эту сторону которой цветет, будто бы, и блещет красками буйная жизнь, по ту — расстилается бледное царство теней.
Это ошибка. Такой грани нет. Смерть точно грибница проросла ядовитыми бледными нитями всю толщу жизни, а в смертной сени идет своя особая жизнь. И нет стены или преграды между царствами, но тесно и неразрывно связаны и сплетены между собою мертвое и живое.
Старая нянька говорила мне в моем детстве, что в минуту смерти душа отлетает от тела.
— Як малая птушка...
Говорила, что изощренный взгляд может уловить этот отлет. И глядя на умирающих, я долго стремился поймать тот миг, когда с бледных губ срывается крылатая жизнь.
И убедился, что поиски эти напрасны. Смерть наступает постепенно. И задолго до той минуты, которую мы зовем на нашем слабом языке смертью, умирают мысли и чувства, способности и склонности, и превращается человек в живую могилу, в гроб, снаружи украшенный цветами жизни, в ходячую нежить.
И не только в человеческой душе, но всюду ходит и бродит нежить, всюду совершает она свою работу разрушения и разложения, всюду бесчинствует и умерщвляет.
И живет своей собственной гнусной жизнью. В дряблых жилах сочится гнойная лиловато-зеленая кровь, в гниющем мозге, как черви, копошатся холодные и смрадные мысли, и мертвые пустые груди поднимаются движениями мертвых страстей.
Все в свое время становится нежитью, лишается творческих сил и способности к развитию. Все умирает. Но не уходить из мира, а продолжает существовать и бороться за свое место в природе. Холодными, бледными но цепкими руками хватает оно за горло юную жизнь, зловещею тенью проскальзывает на ее праздник, тушить ее огни, из глубоких могил встает страшным призраком и бывает, что — lе mоrt sаіsіt 1е vif.
Торжествует тогда старая мораль, скалит обнаженные челюсти мертвая правда забытых дней, встают из гроба безглазые истины, и на веселой земле начинается шабаш скелетов и призраков.
Вы думаете, — это бывает редко?
---
Первый раз наблюдал я торжество и победу нежити еще в моем детстве, когда, движимый страстью к приключениям и любовью к яблокам, перелезал через забор в графский сад.
И отчего было не лазить, когда во всем большом саду был только один полуслепой сторож, — да и тот приятель, — а старый и тоже полуслепой Трезорка никогда не кусал меня за икры?
Далеко в глубине сада был заросший пруд с черной загнившей водой. За ним лужайка, поросшая спиреем, жимолостью и сиренью, — и, наконец, в тени дряхлых лип стоял старый графский дворец с когда-то белой, теперь похилившейся колоннадой, провисшей крышей и забитыми досками окнами.
К дворцу я боялся ходить. Люди давно не жили в нем, потому что им завладела нежить, потому что по ночам там слышались глухие стоны и, говорят, бледные тени скользили по пустым покоям.
Но в сторожку я бегал охотно и там, сидя обнявшись с Трезоркой, охотно слушал рассказы старого Якова про старые дни, когда в доме мертвой нежити жила и грозила нежить живая.
— Почему же его бросили? спрашивал я.
— А потому и бросили, что ходе у нем старый грап. Ходе кажинную ночь и зубами ляскае... А за им ходють уси, кому ён веку покоротил. Ходють, и плачуть, и покоряють. А Боже-ж мой, ни дай Бог никому такого лиха...
— Почему же он ходит?
— А не приймает земля яго костей, не приймает пекло яго душеньки. Во, и бродить ён по тому месту игде шкодил, и плаче кровью, и ляскае зубами...
И затем шли бесконечные рассказы, страшные рассказы о былом.
Это был исстари жестокий и злобный род. Богатый и гордый, он мало справлялся с тем, что считалось правом, что было дозволено. Sіс vоlо, sіс jubео, — нигде в мире этот принцип, провозглашенный двуногим зверем, не применялся с такой примитивной простотой, как в наших старых дворянских берлогах, если в них жил богатый и знатный зверь. И потому перед графским родом трепетали не только «подлые крепостные людишки», но и городничие и даже губернаторы входили в дом с белой колоннадой над прудом — с почтительной робостью. Исстари поэтому лились кровь и слезы вокруг гордого и жестокого рода.
Но нельзя безнаказанно из года в год, из поколения в поколение культивировать в себе жестокую злобность, нельзя бесчувственно давить тяжелой ногой чужую жизнь. И не было потому ничего удивительного в том, что наконец в графском роду родилось маленькое чудовище с мозгом злобного кретина и с гнилою кровью в жилах.
Он рос заморышем, больным злыми корчами, воплотив в себе все недуги и грехи ряда поколений, взяв на себя все проклятия, сыпавшиеся на головы его отцов. Живая нежить, он тем не менее рос и не умирал.
— И не было на свете другого такого поскудника, — характеризовал его Яков.
И развертывал передо мной длинный и страшный свиток старых барских грехов, доведенных молодым графом до их возможного предела.
Всегда господа портили девушек-крепостных; — чем же был хуже их молодой граф? Поэтому и он дарил своею любовью молодых и нежных девушек — вышивальщиц.
Но такова была сила проклятия, тяготевшая на всех его начинаниях, так отвратительны были ласки кретина, что первая же его любовница, — маленькая веселая девочка, взятая им силой, — утопилась на другой день в пруду. И с тех пор, повинуясь страшному примеру, одна за другой погибали тою же смертью все обласканные им девушки, — все самые нежные, самые веселые и молодые.
Скоро стало непреложным и всем известным законом, что та, на кого упадет милостивый взгляд уродца, — должна умереть. И если девушка вдруг бледнела и в дикой тоске, как потерянная, толкалась день и другой, — все знали что её избрал или наметил сам граф, и что скоро в зеленой тине пруда найдут ее тело.
И все жили в тоске, и воздух был насыщен ненавистью, и берегли, как могли, юную жертву, и не могли уберечь...
Всегда так бывало, что на барских конюшнях пороли и драли сколько хотели. Но графу пришлось жить в царствование Николая Павловича, когда под толстыми мужицкими черепами начала усиленно бродить мысль о воле, и покорные мужицкие сердца стали более чувствительны к обиде и более склонны к бунту.
И в вотчинах графа не прекращались волнения, а иногда они вспыхивали ярко, — именно тогда, когда по деревням начинали рыскать господские гайдуки, высматривая молодых и хорошеньких для девичьей и ткацкой.
— Не дадим дочек душегубу — кричали матери.
И девушек приходилось отбирать силой, «боем» — следуя терминологии Якова.
Одно обстоятельство особенно омрачило и без того мрачную жизнь этого страшного дома. Граф задумал жениться и выбрал по своему обыкновению молодую, нежную и веселую девушку из обедневшей княжеской семьи. Была парадная свадьба, был блестящий бал, и ночью устроили карнавал на льду. Шел ноябрь в начале, и пруд перед дворцом затянуло молодым ровным льдом. Его расчистили от снега, вокруг поставили горящие бочки и крепостные мужики и девушки, ряженные зверями, чудовищами и фантастическими существами плясали и делали «кумедии» на льду для потехи новобрачной и приглашенных гостей.
И как всегда смерть, всюду караулившая все начинания графа, протянула свою костлявую руку, и подломила под танцующими молодой неокрепший лед. Много нелепо ряженных тел таскали весь следующий день из под смерзавшихся льдин, — но коза и медведь, плясавшие вместе, вместе остались до весны в илистой глубине пруда, и только весною всплыли на верх распухшие и страшные в своих звериных шкурах.
Молодая не дождалась однако этой поры. После страшной свадебной ночи она, как говорили, помешалась, несколько раз убегала в стужу и ночь. Ее ловили и привозили обратно, — и тогда она убежала туда, откуда нет возврата.
А в вотчинах прорвался давно копившийся гнев.
— Не хотим быть под душегубом. Перестали выходить на барщину, перестали платить оброк, жаловались губернатору, архиерею.
Но жестокий кретин не был бы выродком, если бы не ответив на «бунт» по звериному.
— Што тут былó! говорить мне Яков. И хотя прошло с тех пор много лет, — голос его дрожит и в подслеповатых мутных глазах — ясный ужас. —Што тут былó! Народ плаче, кровью плаче, а не слезьми. А ён, як волк, ходе и зубами ляскае. «Подать, каже, мне бунтовщиков». И што ночь, — едуть гайдуки у вотчины, вяжуть, вязуть к грапу, бьють, руки ломають, жилы тягнуть. А кто Богу душу отдаеть, — того ночью у пролубку. А грап як шаленый стал. Синий увесь, повалится на землю и пена, и пена... А потом знов — «где яны мои вороги, подайте мне бунтовщиков». А-а-а!
— И скольки годов этак шло, скольки годов! И нихто не поратуе и нихто не поможе. Мы губернатору, — а ён к нам солдат. — «Бунтовщики», — кажить. Мы к спраунику, — а ён нам: «розгами засеку, у каторгу!» Нима прауды на свети...
Кончилось все неожиданно и тоже страшно. Графа убили. Убил старый камердинер, нянчивший его в детстве, убил жестоко, издеваясь над телом, и сам повесился тут же на люстре.
Эта смерть почти совпала с освобождением крестьян. Таким образом разом умерли и старое подлое право и тот, кто, воплотив в себе все пороки этим правом воспитанных поколений, жил на веселой земле, сея зло и страдание. Казалось бы, что засыпав землей и придавив могильной плитой умершее прошлое, можно было начать новую светлую жизнь. Казалось бы...
Но нелегко уступает нежить свое место в природе, цепки ее хищные руки, — и прежде всего убедились в этом наследники графа.
Пропитались ли кровью самые стены дворца, безмолвные свидетели гнусностей и злодеяний, — или старая отравленная кровь текла в жилах новых обитателей дома, — или, наконец, была правда в народной молве, будто «душегуб» и после смерти своей приходит мучить и убивать живых, — но только известно, что одна за другой, в течение немногих лет сошли с ума две юные наследницы-графини и что брат их повесился затем на той самой люстре, на которой болталось тело старого камердинера.
Шепотом говорили с тех пор, будто люди оттого не живут в этом доме, что каждую ночь по темным покоям бродит призрак хищного графа и ловит руками и ищет молодых нежных и веселых, и что каждую ночь потом из темных углов выползают искалеченные тени, распухшие призраки утопившихся и спущенных в проруби, и потрясая изломанными руками, с стонами и воплями гоняются за душегубом, а он падает на пол и, весь синий, бьется в злых корчах.
Цветиста фантазия народа...
И опустел старый дом. Заколотили досками окна, провисла сгнившая крыша, облезла краска, с фронтона оборвались гербы и корона скрипя болталась на ржавом гвозде. Грязный, убогий стоял проклятый дом нежити на берегу зацветшего черного пруда, — отделенный от жизни стеной суеверного страха, внушаемого им людям.
Старый, проклятый дом нежити.
---
Я был уже подростком и давно не лазил уже через забор за чужими яблоками, когда однажды в заброшенную графскую усадьбу пришла артель плотников. Целую весну, а потом и лето и осень и зиму стучали их топоры, визжали пилы, целый год суетились там люди и возились над домом привидений, и когда они, наконец, ушли, — подновленный дом стоял с открытыми дверями и окнами, блестел лаком и масляной краской и, как будто говорил всему миру:
— Смотрите, все в порядке, все ново и чисто, и ничего нет ни страшного, ни необычного. Живите.
И охотники жить в нем нашлись. У ворот теперь постоянно сидели на лавке дюжие унтера с большими медалями на синих мундирах. В саду, и под липами и около служб постоянно толклись все они же. А в доме с окнами на пруд и белыми колоннами поселился старый генерал. Молодые, нарядные офицерики, с удивительно чистыми и гордыми лицами бегали к нему в дом с тяжелыми черными портфелями, что-то там писали, сучили и плели какую-то бумажную паутину, — а вечером, сидя на заборе, я видел их вдали на балконе и слышал их веселый смех и бойкие разговоры.
Была весна. Цвела сирень. Спирей выбрасывал свои точно усыпанные манной кашей душистый метлы. Все, начиная с блестящих пуговиц на синих мундирах до цветов и соловьиных раскатов в заросших кустами садах, было так ясно, просто, понятно и весело, что, казалось, и впрямь новая и простая жизнь началась в графской усадьбе. И однако...
— Сегодня у нас вечером будет генерал, — сказал однажды отец моему старшему брату, и кивнул головой по направлению к саду. Смотри брат, держи язык за зубами. Не либеральничай!
— Не станет же он доносить за разговоры за чайным столом? — ответил брат.
— А ты откуда знаешь? И почему ты думаешь, что чайный стол тебя защитить? Ничто не защитить, брат...
— Вы об них так говорите, будто они какая то тайная, волшебная сила...
— Ну, уж волшебная, или нет, не знаю. Но страшная и тайная. У них всюду глаза, всюду уши, все узнают, и против них нет охраны. Возьмут, — и пропал человек...
— Я думаю, отец, тут не без преувеличения. Ну, откуда все знать, все видеть?..
— Поживешь — узнаешь. А я видел. Одно говорю: — не верь ни служанке, ни барыне, ни гостю, ни хозяину. Не верь любовнице. Она будет тебя целовать. а рукой шарить в кармане. Ты знаешь, как узнали все про Петрашевского? Через любимую женщину. Ты знаешь кто здесь их агент? Самая красивая дама... А ты болтаешь: — за чайным столом!
Я слушал, и хотя не совсем понимал, тем не менее на чистенького генерала с крашеными усами и фарфоровыми глазами, которого я часто видел в графском саду, пала от этих слов какая-то жуткая серая тень, точно тень старого дома с его призраками, с его кровавыми тайнами.
С жутким любопытством разглядывал я его вечером, когда он пришел, поджарый, высокий и затянутый, щелкнул шпорами, точно сухими костяшками ног, что-то сказал сухим трескучим голосом и громко расхохотался, открыв будто мертвые челюсти, откуда глядели резиновое небо и искусственные зубы.
И чем больше я глядел на него, на фарфоровые ничего не выражающие глаза, на крашеные волосы, вставные зубы, на всю эту голову, ворочавшуюся толчками на длинной шее, точно на шарнире, — чем дальше вслушивался я в сухой лающий голос и горохом рассыпающийся смех, — тем больше казалось мне, что передо мной не живой человек с мягким, живым, упругим и теплым телом, а заводная кукла, резиновое чучело, натянутое на костяк, подкрашенная и подновленная нежить, — законный обитатель подкрашенного и подновленного старого дома.
Что говорил он? О Венгерской кампании, о буром жеребце, на котором проделал ее, о кузнеце-венгерце, умеющем ковать на три гвоздя, о подкове, которая держалась на этих трех гвоздях, — Бог знает, можно ли было выкопать из старого хлама более ничтожную, ненужную ветошь? А он между тем все болтал и все смеялся сухим хриплым смехом — точно в горле у него пересыпался горох, — и все крутил сухую длинную шею в высоком синем воротнике, и все ворочал бессмысленными фарфоровыми глазами.
А отец то хмуро слушал его, то вдруг, будто вспомнив что-то, начинал вторить ему дробным смехом и беспокойно и, как мне казалось, угодливо бегал глазами.
Когда, наконец, генерал встал, и щелкая шпорами, фальшивыми челюстями и висюльками аксельбантов, ушел, — у меня осталось впечатление, будто целый вечер передо мной трясли мешок полный костями, сухими костями, вырытыми из могилы...
И он ушел туда в этот старый мертвый дом, где стены пропитаны кровью, где во всех щелях под свежей замазкой и лаком живут призраки старых грехов, где бродит тень душегуба, — где до сих пор, быть может, молчаливую тишину ночи тревожат стоны и вопли замученных. Быть может и сам он, этот тощий сухой генерал, только подмазанная и подлакированная нежить, разложившийся прах седой жестокой старины, бледной костлявой рукой, хватающий за горло молодую прекрасную жизнь? Как этот страшный граф, что выбирал только молодых, веселых и нежных?..
С этих пор я с прежней опаской стал смотреть на подкрашенный старый дом, и каким то неясным и смутным внутренним процессом стерлось для меня различие между теперешними его обитателями, большими, шумливыми, увешанными побрякушками и шнурками, и теми призрачными тенями, ночными тенями старого дома, которые таскались по его залам, потому что земля не принимает их костей, а пекло — их душ, по словам полуслепого Якова.
И чем дольше жили в старом доме наши новые соседи, тем определеннее чувствовалось не мною одним, а и всеми, что в нем, в этом доме нежити, изменилась только внешность, подмазанная и подкрашенная, а сущность осталась все та же.
Всегда, — и тогда, когда здесь жил и позорил землю «проклятый» граф, и тогда, когда слепой Яков бродил по заросшим дорожкам заросшего сада, вокруг брошенного дома и теперь, когда нарядные офицеры и заплывшие унтеры гремели шпорами и сыто хохотали, — все знали, что дневная жизнь дома — одна только видимость, маска. Настоящая жизнь, то, в чем дом открывал свою особую грозную природу — начиналась ночью, когда мрак спускается на землю и окутывает тайной и то, что есть, и то, чего нет.
Ночью «проклятый» граф грыз пальчики тех нежных и молодых, которые другою ночью спасались от него в тине пруда. Ночью выкручивал он руки дерзких мужиков, которых ночью гайдуки привозили из дальних деревень, чтобы другою ночью спустить в прорубь реки.
Ночью дряхлый камердинер, забыв холопскую верность и страх холопа, почувствовал, что не может уйти он в могилу, не порвав бесконечной цепи злодеяний, и ночью же он выдавил глаза господину и для себя захлестнул на люстру ремень.
И после того, год за годом, ночью выходили из закут истязальни, из темных углов пустых зал замученные тени, громко стонали и окружали кольцом «проклятого» графа, который, щелкая зубами, скользил бледною тенью от одной пропитанной кровью стены к другой. Тайная, ночная, страшная жизнь — она была всегда настоящею жизнью старого дома. И такой осталась она и теперь.
Едва мрак спускался на землю, и люди погружались в сон, за закрытыми ставнями дома зажигалась огни и темные тихие тени, сдержанно побрякивая металлом о металл собирались в больших полутемных передних. Другие тени, с поднятыми воротниками и нахлобученными шапками спешно и крадучись пробирались в калитку и, шмыгнув, пропадали в тени старых лип. Молча, таинственно собирались нарядные офицеры, серьезно и сосредоточенно отдавали приказания, — и затем молчаливыми ватагами отправлялись в таинственный путь и исчезали во тьме, — точно сеть, опустившаяся в темные глубины моря.
Через несколько часов сеть так же тихо и бесшумно возвращалась, — с уловом. Странно: — это, как и встарь, было обыкновенно, молодое, веселое, нежное. Безбородые юноши, молодые девушки, часто почти дети. Их привозили и приводили неизвестно откуда, — или, вернее, отовсюду, — и запирали в темные конурки, у дверей которых молча и таинственно становились темные тени. Иногда к ним выходил старый щелкающий генерал. Широко разевал искусственный челюсти, игриво ворочал фарфоровыми глазами и то хохотал, пересыпая горох в своем горле, то угрожающе гремел костями в мешке. И всегда у этих молодых и неопытных оставалось впечатление, что вот только что приходила поиграть с ними сама смерть, костлявая смерть, подкрашенная, полакированная и затянутая в тесный мундир.
И от этого они сидели в своих темных конурках подавленные и тоскующие. В плену у смерти. В доме нежити. В старом доме, стены которого пропитаны кровью, воздух насыщен стонами...
Иные боролись долго, упорно — это верно те, которые знали нужные молитвы и заклинания. Другие, и особенно молодые, нежные и веселые девушки, — скоро слабели в непосильной борьбе. Может быть тень «проклятого» графа приходила ласкать их, грызть им пальцы и груди? Может быть призраки прошлого, стонущие и окровавленные призраки, сводили их с ума? Кто может это знать?
Но знали наверно, — и толстая слезливая кухарка Марья знала тоже наверно, что стоны и жалкие крики, которые можно слышать, стоя тихой ночью у нашего забора, свидетельствуют неопровержимо о том, что кому то опять, как встарь, ломают руки и вгрызаются в сердце.
— Встала я ноччись, — рассказывает Марья, сидя утром за самоваром, кучеру и дворнику и всем остальным обитателям кухни, — выйшла на ганки и слухаю. Плачить! Так-таки жалостно плачить, а потом як засмяется!.. Утекла я. Ня можно слухать, як яно плачить: як дитя...
— И все возють, все возють, — мрачно отвечает кучер Захар, — лиха на них нима. Седни знов привязли у карети. Вокна завешаны... Кажуть, якуюсь соусим рабеночка...
— Нячистое место, будь яно проклято... Ящо за старым грапом...
И шли бесконечные страшные рассказы, где прошлое переплеталось с настоящим, где нельзя было разобрать, что в этой безвременной фантасмагории почерпнуто из воспоминаний, и что из действительности. И ни я, частый слушатель этих кухонных разговоров, ни, думаю, толстая Марья, никогда не могли уяснить себе, — кто же это плачет так жалобно там в старом доме, — бледная ли тень, выходящая из старой темной могилы, или бледная девочка, привезенная только вчера в старой темной карете.
А костистая рука нежити продолжала между тем свое дело. Каждую ночь протягивалась она куда-нибудь и выхватывала из жизни того, кто ей казался самым жизненным, самым нежным. Пришла, наконец, очередь и до нашего дома.
Это было так. Я спал уже давно и крепко, когда ко мне в спальню ворвалась сестра Маша, в одной рубашке, и тряся меня, и трясясь сама, начала совать мне в руки какой-то сверток.
— Спрячь, Сережа велел, спрячь скорей, дрянной мальчишка... Миленький, проснись же, спрячь, ведь у нас приведения! На!
— Что с тобой? Что надо? Какие привидения? Маша приложила палец к губам и старчески серьезно сказала:
— Оттуда. Понимаешь? К Сереже. Спрячь же скорей.
У мальчиков всегда имеются хорошие пряталки. И сделав все, что было нужно, я пошел вниз. Там стоял сам скелет, щелкал челюстями и шпорами и, изогнувшись боком и отставив кренделем костистую руку, говорил матери:
— Сам пришел, чтобы успокоить вас. Надеюсь — не на долго. Надеюсь, ничего очень серьезного. Что? Да, все-таки возьмем. Что делать, такое время! Но даст Бог, даст Бог...
— Как он смеет говорить о Боге? Как он смеет? Что общего между ним и Богом? — негодует потом моя мать, и ходит беспокойно большими шагами по всему дому, точно ищет что-то потерянное, навеки потерянное...
Я прижимаюсь к отцу, встретившись с ним в темной передней.
— Да, брать, — говорить он мне вдруг, — точно смерть прошла... Пусто.
И Маша, сидя вечером на моей постели, шепчет мне:
— Они как пауки, — сидят, притаившись в затканном паутиной темном углу, и караулят. И бросаются потом на бедную муху и сосут ее и убивают.
— Нечисть, прости Господи, право слово — нечисть, — формулирует общее мнение толстая Марья.
С тех пор старый дом стал не только пугалом для нас, но и личным врагом нашим. И с тех пор и я, и Маша пристрастились к этим затасканным, грязно напечатанным книжкам, которые мы спрятали в ту ночь. Смутным чувством, отождествившим для нас руку, похитившую Сережу, со злою нежитью старого дома, признали мы в этих книжках отражение жизни, — неведомой, только еще раскрывавшейся перед нами, но уже сияющей где-то там, впереди, всеми радужными огнями светлой жизни.
Не удивительно, что, спустя установленное время, рука протянулась и за мной.
Но щелкающего генерала уже не было. Не знаю, перекочевал ли он в какой-нибудь другой старый дом, или официально перешел в штат призраков, ютящихся в темных закоулках своего бывшего жилища, чтобы бродить по ночам вместе с «проклятым» графом, — но на его месте сидел другой генерал.
Растекаясь от толщины на ручки кресла, сидел он в нем, и был похож на перину в выцветшей наволочке, скомканную и втиснутую в кресло. Бессильно и неподвижно лежали на мягком животе вспухшие серые руки, и в заплывшем сером лице безжизненно, не мигая, скрывались маленькие мертвые глаза. Скука, смертная скука застыла в его сонном взоре, стекала медленными густыми каплями с серой отвисшей губы, пропитала все старчески-развалившееся тело.
Я сидел и каждая жилка играла и дрожала во мне страхом, злобой, юным задором, и где-то только притаившимися, но ежеминутно готовыми хлынуть слезами.
Он заметил как прыгает у меня рука на столе. На минутку насмешливый огонек вспыхнул в глубине сизых глаз и потух.
И беззвучным умершим голосом, вяло шлепая губами и спустив на глаза дряблые веки, генерал прошамкал:
— Дрожите? То-то... А сидели бы смирно... Все дело в том, чтобы сидеть смирно... Да. Смирно...
И он плотнее въехал в кресло, и втянув голову в жирные плечи — уснул? или умер? или сел смирно?
Ночью мне снилось, что в мою маленькую глухую коморку вошел «проклятый» граф, и, щелкая зубами, показывал на меня мертвой рукой и сказал мертвым беззвучными голосом.
— Он жив, он жив, — задушите его скорей...
Сухой генерал постучал своими костями, побрякал вместо шпор сухими пятками и, захохотав своим щелкающим смехом, ответил
— Даст Бог, даст Бог...
Тогда неслышно подоплыл или подкатился ко мне сегодняшний скучный толстяк, и навалился на меня своим гнилым жидким телом.
— Все дело в том, чтобы сидеть смирно, смирно, да, смирно, — шлепали его вислые губы.
Но я не хотел смирно задохнуться под его страшной тяжестью, и кричал и метался, пока не вошел унтер, не потряс меня за плечи и не сказал:
— Здесь кричать не дозволяется. Смирно лежите, чтобы без шуму, смирно...
Так еще раз убедился я, что нежить живет и ходит и бродит по земле хватая мертвой рукой все живое, молодое и нежное.
---
Прошло много лет, и я вновь дотащился до своего дома, — когда-то веселого милого дома, в котором то тихо, то бурно — текла наша юность, расцветали надежды, разгоралось пламя любви и борьбы...
И оно разгоралось, и ярко пылало, и сияющим цветком распустились надежды, — но и мертвая рука старой нежити не лежала праздная. Это для нас, для живых, была выдумана заповедь: «смирно». Сама же она не знала покоя.
Сначала призрачная и ночная, она перестала потом бояться дневного света, и вырастая, бесконечно большая, костистая и жадная, она косила направо и налево, и в безудержном размахе взрывала землю, тянулась к звездам, закрывала свет солнца и, опустошив поле жизни, нависла над ним черной тенью.
Дом наш за это время осунулся. Покривились ступени. Горбом выдались стены. Угол осел, точно подогнулись под ним старые ноги. И забор отделявший нас от графской усадьбы обвалился и сгнил, — а может быть его растащили, или пожгли? Яблоня из графского сада низко перегнулась к нам, кусты, завоевывая понемножку пространство, переползли на наш двор, и исчезла граница между гнездом нежити, давно опять заколоченным и пустынным, и нашей пустевшей и дряхлевшей усадьбой.
— Слава Богу, говорить мне мой совсем старый отец, слава Богу, что хоть ты добрался до дому... Эх-хе-хе!
И он понуро и долго молчит.
— Как-нибудь, как-нибудь дотянем, дружок... Что уж роптать? Не многим досталось и такое счастье — хоть ты у нас. У Ивановых — какая семья! а дома ни одного. Ох, Боже мой. А у Оли? и того хуже... да!..
И я чувствую, что за этой покорностью, что за этими горькими «слава Богу» — кроется раздавленная жизнь, что и в нём, в моем старике, lе mort a sаіsіt lе vіf.
А старая мать — та так прямо и говорить мне, когда я, лежа на балконе, нервно рву обложки газет и бегаю глазами с одного столбца на другой.
— Охота тебе! Только себя расстраиваешь... Не для нас это, мальчик мой. Ты лучше усни спокойно и забудь все, забудь...
И Марья стала совсем старухой, сморщенной и горбатой: исчезла великолепная толщина ее и только старая привычка легко плакать, подпершись кулаком — сохранилась вполне.
— Ну, что слышно там? — спрашиваю я у нее, кивая на графскую усадьбу?
Она сердито морщится и подпирает щеку кулаком.
— Только, пожалуйста, хоть ты не плачь,— торопливо говорю я ей.
— Што ж плакать? Слязьми не отратуешь... Повыплакала уж уси слезы я...
А у самой уже течет из одного глаза предательская струйка — обличительница сказанной неправды.
— Ну-ну! Так что ж, — все ходит там, все бродит там по ночам?
— Вы мне лепше скажите, игде тяперя не бродит? вдруг сердится на меня Марья. — То колись було, што у во всем городе один такий проклятый дом был. А тяперичи... да вы може думаете у нас не плаче? Вы послухайте ноччу: над паратными вое, у трубах плаче, по крыше ходе: по усему свету расползлась гэта нежить, спокою не дае...
И опять подпирает щеку кулаком.
Я хочу вскочить, весело и громко закричать, расхохотаться, чтобы прогнать эту мертвую одурь, эту могильную, дряблую печаль, свидетельствующую о победе нежити над жизнью, — и это мне на минуту удается. Я быстро встаю и начинаю... кашлять, кашлять до надрыва, отплевывая мокроту и кровь, пока не приходить мать, и не говорить:
— Ах, зачем ты встаешь! Тебе надо лежать, лежать, лежать...
Мне надо лежать, потому что бледная нежить забралась и в меня и ее бледные руки хозяйничают в моем сердце. И покорный и обессиленный я лежу, лежу и слушаю. Что же еще делать мне, инвалиду?
И я слушаю, и слышу, — и особенно ясно слышу я это по вечерам, когда умолкает ненужная суета в доме, — что весь мир, — и земля и воздух и город и дальние за городом рощи и широкая под горою река, — все полно звуками жизни, напряженной, неистребимой, ликующей жизни.
Они плывут ко мне, эти звуки, в смутном гуле большого неугомонного города, в нежных переливах песен с реки, в топоте резвых детских ног за забором, в бесшабашном смехе там, на улице.
Там идут веселые люди и кто-то молодым ясным голосом говорить.
— Э, полно-те! На последях справляют они этот шабаш. Все изменилось. Потеряна ими и тень нравственной власти. Никто их не уважает и даже не очень их и боятся... Мы свободны, свободны! Они только тени...
Другой глухой голос бубнить что-то угрюмо, но я не могу разобрать — что.
— Ну это для стариков и малых ребят, — отвечает первый.
Они проходят дальше, и я слышу только обрывки фраз.
— Нас как песку на дне моря... Свобода... завтра...
Да, неистребима, — думаю я, — вечно юная, буйная жизнь. Тысячами крепких сочных ростков пробивается она повсюду из незаметных, серых, землею засыпанных зерен. Неистребима, неистребима...
А шаги возвращаются. За кустами, растущими у палисадника, мелькают легкие, как облако светлые одежды. В них играет луч месяца и слышится девичий смех, — молодой, веселый и нежный.
И почему-то темное опасение закрадывается невольно мне в душу и, насторожившись, я жду...
И действительно, к веселому легкому смеху присоединяется другой щелкающий смех. Щелкают потихоньку шпоры? или костяшки? — и сухой трескучий голос, — старый знакомый, — говорить с явным злорадством:
— Ну, мы еще это посмотрим...
Старый знакомый из старого дома...
СВЯТАЯ НОЧЬ
Святая ночь всегда черна.
И вдвойне черной должна она казаться народу, в среде которого родился Тот, чье торжество над смертью мы празднуем в святую ночь.
До сих пор это племя ждет в святую ночь и следующие за ней святые дни, что последователи Христа, озарившего мир великой любовью и «разверзшего гробы мертвых», пойдут с разбоем и убийствами на его соплеменников и почтут ночь Воскресения вакханалией крови и зверства.
Вот почему святая ночь всегда черна.
Пусть поэтому другие писатели рассказывают христианам трогательные, светлые, веселые пасхальные рассказы. Пусть, кто хочет, чтить светлой радостью светлый праздник.
Я знаю, что и ныне тысячи и тысячи русских граждан в смертной тревоге ждут, не раздастся ли где сигнальный выстрел, по знаку которого на их дома бросится человеческое отребье. И потому я святую ночь почту воспоминанием об одном черном деле, совершившемся некогда под ее покровом, деле старом и, в то же время, столь современном.
Я расскажу вам о Срульках.
Так называется пустынное, заброшенное место на берегу оврага, в нескольких верстах от Могилева. Не знаю, каким выглядело оно встарь. Теперь оно печально. Десятка два старых кривых берез стоять над ним редкой толпой, опустив до земли плакучие свои ветви, точно дряхлые седые евреи в длинных пейсах, пришедшие поплакать над могилами своих замученных предков.
Их замучили и убили в Святую ночь 350 лет тому назад, и память о них живет только в смешном пренебрежительном, названии. Но в архивах города хранятся акты, и в них любознательный современник может почерпнуть доказательство, что и во времена Грозного и Батория, среди так называемых христиан, было столько же «истинно-подлого» зверья, как и в наши дни.
Дети Израиля, — «Срульки» — появились в Могилеве в половине XVI века. Они пришли из Польши, где становилось тесно и трудно жить, где начались гонения. Сыны Израиля откомандировали тогда посольство на восток, и три седобородых мудрых еврея пришли и стали перед чинами могилевского магистрата.
Потомки почетных граждан старого Могилева населяют и теперь предместья города: Луполово, Дебрю, Дубровенку. «Именитые мещане», — кожемяки, лавочники и скорняки, — они и теперь живут в дебрях союза русского народа, и охотно являются по его зову «лупить жидов».
Воображаю, что это были тогда за фигуры! Толстые, тупые, с лукаво-недоверчивыми заплывшими глазами, в синих до пят кафтанах сидели они в ратуше, как истуканы, ити почтенные «отцы города», и слушали вкрадчивую и осторожную речь послов.
— Мы из Ломжи, — говорили им депутаты; мы там живем давно и хвалим Бога, потому что люди довольны нами, и мы людьми довольны. Но только община наша умножилась, и хотя это — благословение Божие, но стало нам на Ломже тесно. Поэтому стали мы искать хороших мест и узнали, что есть хороший город Могилев, и что управляет им мудрый из мудрых магистрат. И сказали нам наши старейшины: идите в Могилев и станьте перед магистратом, и поклонитесь ему, и поднесите французского бархату, шленского сукна и серебряные изделия, и просите привилегию нашей общине жить и торговать в городе Могилеве.
Ратманы взяли подношения и долго их щупали и смотрели на свет. И так как все было первого сорта, то они взяли подарки, и снова уселись и стали шептаться о том, что подарки хороши, но что их мало. А старые евреи покорно и робко отошли в сторону и ждали.
Не надо думать, что в XVI веке дипломатия алчности отсутствовала. Торгаши изучили ее много раньше. И потому, пошептавшись, магистрат облек пробудившуюся алчность в форму категорического отказа.
— Ня можно!
Депутаты не даром, однако, назывались мудрыми людьми. Они немедленно сказали новую льстивую речь и принесли новые подарки, — тонкое полотно, сафьян и золотые безделушки.
Магистрат смягчился, но виду не показал. И отказал во второй раз. И только после третьего подарка самый экспансивный из ратманов спросил:
— А якая ж за вас буде нам польза?
— Який интерес? О, интерес будет. Они откроют торговлю: они создадут пути сообщения; будут скупать кожи; привлекут капиталы; процветет город...
— А гроши у позыку дадите?
— Гроши? А як же не дать гроши панам ратманам? Куму же и дать, когда не ратманам?
— Дадим, дадим, скольки треба...
Это был аргумент. И ратманы, именитые мещане, предвкушая сладость займов и вымогательств, дали просимую грамоту. И четыреста еврейских душ переселились в течение года в Могилев.
Еврейские ходоки сказали правду. Город расцвел и начал обстраиваться. Торговля процвела, и много денег перешло из еврейского кармана в руки тупых, но жадных именитых граждан Могилева.
Но, сказав правду, они сказали не всю правду. Торговля процвела, но мещанские лавки с гнильем и дорогими ценами, с обмером и обвесом — опустели. Дома росли, как грибы — но это были еврейские дома. Вместе с золотом в еврейских бумажниках лежали долговые обязательства. Кожи, действительно, ушли на запад, в Вильну и Варшаву, но цены на них ставили «жиды». Быстро и неудержимо, тысячами путей захватывали пришельцы в свои руки всю деловую жизнь города, становились сто истинными хозяевами. На Луполове, на Дебре тупое и хищное мещанство с тревогой начинало смотреть на этот стихийный, казалось процесс. Оно не хотело объяснить его интеллигентностью пришельцев, их деловитостью, энергией в работе, бережливостью в жизни, и скромностью потребностей. Оно искало в своих звериных мозгах звериного объяснения, и нашло его.
— Нячистый помогае!
Перемена коснулась, однако, не только делового мира. Она шла глубже и проникла в нравы. Вслед за отцами, к еврейскому карману нашли дорогу и сынки, и протирая занятым деньгам очи, наполнили город бесчинствами и дебошами, т.-е. тем, на что были способны. С другой стороны, мещанские девицы с завистью глядели на роскошные наряды красавиц-евреек, когда они в субботу чинно гуляли по улицам, сверкая камнями и золотом, и стали требовать у матерей нарядов и украшений...
«И развратились нравы», говорит современник описывающий трагедию первого могилевского погрома. Развратились нравы людей, никогда не знавших нравственности, — звериные нравы.
Тогда вступилось в дело духовенство. Сотни лет занятое Требами и поборами, оно увидело в «духе нового времени», охватившем паству, угрозу себе и своим доходам, и встрепенулось. Никогда с церковной кафедры не гремели такие красноречивые проповеди и против роскоши и мотовства, а, кстати, и против соблазнителей — евреев, христоубийц.
Вокруг еврейской общины начинали собираться тучи. Неизвестно, кто первый пустил в оборот мысль, чрезвычайно простую и, казалось, способную радикально разрешить все недоразумения, покрыть все долги, вернуть нравам первобытную чистоту. Но мысль была кем-то пущена в ход, и прижилась, как зараза в гнилом организме.
— Перебить жидов, да и дело с концом!
Сначала ее встречали, как шутку, и реготали. Потом начали задумываться над нею и находить, что она не лишена достоинств. Когда же, с течением времени, развивавшаяся мысль дополнилась соображением о том, что, перебив жидов, можно не только не платить долгов, но и пограбить все остальное жидовское добро, — то судьба еврейской общины была решена.
— А и богато ж у них, у пархов, грошей! — мечтательно соображал теперь могилевский мещанин, глядя на дома и лавки своих кредиторов и укреплялся в своей благочестивой мысли.
Духовное убожество, житейская неумелость, отсутствие всякой культуры, дикость нравов, звериная жестокость, жадность на деньги, то своеобразное извращение религиозного чувства, которое сопутствует преобладанию в религии обрядовой стороны, — все способствовало тому, что шалая мысль, брошенная неведомо кем, стала общим и твердым решением, и перед могилевскими дикарями встал вопрос о сроке.
Когда же и заняться добрым делом, как не на Пасхе, как не в светлый праздник? Это так естественно, что ни у кого из добрых христиан не возбуждало сомнений.
Поэтому страстная неделя прошла в обычных говениях, посещениях храмов, покаяниях во грехах, а также в усиленной беготне и секретных переговорах о погроме...
Во главе дела стали «отцы города», члены магистрата, те, кто выжал из жидов всего больше денег и был всего больше должен. Какие же были бы они отцы города, если бы не взяли на себя первой роли в патриотическом поступке?
Они сговорились, распределили кварталы, сорганизовали отряды «молодцов», составили стратегический план кампании. Они назначили для бойни первый день светлого Христова Воскресения. И решили, что сигналом послужит похоронный звон колокола на колокольне Братства.
Но у богатых людей всегда имеются друзья, иногда бывают они и у добрых. И так как среди евреев было много богатых и не мало хороших и добрых люден, то до них скоро дошли слухи и вести, сначала о растущем среди мещанства озлоблении, а затем о принятом кровавом решении.
В пятницу вечером одна христианская девушка прибежала под покровом вечерних сумерек в дом рабина, Иосиля Тейхеля, и рассказала, что в доме ее отца, после выноса плащаницы, собрались все уважаемые лица города, и постановили на первый день праздника перебить всех жидов и разграбить их дома.
Тейхель был мудрый и решительный человек. Он выслушал девушку и спокойно велел молчать своим двум дочерям и старушке матери, велел молчать, не плакать и не поднимать шуму. Потом сел за субботнюю трапезу и ласково болтал и успокаивал свою семью. Но про себя горячо молился Богу об избавлении. Ночью он имел свидание со старейшинами общины, и так как вести, принесенные девушкой, подтвердились, старейшины решили бежать.
Это решение окрепло вполне в субботу, потому что сотни еврейских глаз увидели чрезвычайное оживление среди христианской молодежи, задиравшей евреев и не стеснявшейся угрожать им. Поэтому Тейхель, окончив чтение закона, велел закрыть дверь в синагогу, и умоляя общину не давать волю чувствам, не плакать и не обнаруживать тревоги, объявил ей о принятом решении бежать от смертной опасности. Он красноречиво говорил и напоминал о бегстве из Египта, из Испании, из Германии. О тысячах страданий, через которые Бог гнева провел излюбленный народ; о тысячах мучений, которые еще предстоят народу, не имеющему отечества на земле потому, что вся земля будет ему отечеством в тот день, когда придет Мессия, обещанный Богом и пророками. И тихо плакал, не удержав собственных чувств; и тихо плакала, вместе с ним вся община, потрясенная ужасом и горем.
Потом, когда женщины и молодежь ушли, в синагоге остались только отцы семейств, и в величайшем секрете решили оставить дома и лавки с товаром и все имущество на произвол разбойников. Взять только золото, деньги и драгоценности, и бежать ночью, когда христиане будут в храмах у заутрени, бежать за город и, пробравшись к Днепру, сесть на приготовленные лодки, и спуститься вниз, по течению реки.
Святая ночь всегда черна. И под покровом мрака, в тот час, когда в горящих огнями храмах раздавалось ликующее пение о воскресении Христа из мертвых, о торжестве жизни над ужасом смерти, сотни еврейских семей в смертном ужасе прокрадывались из домов, и скрываясь в глубине тьмы, у заборов, по закоулкам, безмолвными тенями бесшумно двигались на север.
Отцы и матери несли на руках спящих малюток, детишки, держась за фалды лапсердаков, скользили в липкой весенней грязи слабыми ногами. Дряхлые старухи и столетние старики, согбенные и задыхающиеся. пронизывали полузрячими глазами ночную тьму, полную опасности, и все дрожали и ждали, что, вот, крик ребенка обратит внимание «гоя», или колеблющиеся ноги старика остановят бегство.
Ведь не было на этот раз за ними волшебного столба, огнем освещавшего им путь в ночи и дымом закрывавшего их от слуг фараона. Не было Моисея, и его волшебного жезла и послушных вод Чермного моря. И потому дети плакали и ноги вязли, и падая, теряя своих и задыхаясь, спешили они, призывая в душах Иегову, оставить скорее проклятый город. Но их заметили, несмотря на мрак, несмотря на то, что беглецы тщательно обходили храмы, вокруг которых толпились люди. Их заметили, и сначала вокруг храмов, среди веселой праздничной толпы, пронесся слух:
«Жиды бегут!»
Потом он проник в храмы, и вызвал волну любопытства и беспокойства. С клироса неслись ликующе звуки о том, что разверзлись гробы мертвых. Но молящиеся внимали не им, а шептались между собой о «жидах» и их богатствах.
Сначала опустели ограды храмов. и толпы любопытных направились к домам евреев. и нашли их безлюдными и в беспорядке.
Началось расхищение, искали денег, искали золота, и не находили. Грабители входили в азарт, разгоралась алчность. Кто-то крикнул:
— У крамы! Разбивайте крамы!
И человеческая волна хлынула к лавкам, взломала двери и потащила шелк и бархат, тонкие сукна и вина, соль и железо, кожи и посуду, — все, что было, все, чем торговали «пархи».
Весть о том, что грабят лавки, ворвалась в церкви вместе с мыслью, что возьмут другие и на долю медлительных не останется ничего.
И мигом опустели церкви, а толпы христиан, и женщин, и детей, бросились оттуда на площади, на улицы, в дома и началась вакханалия всенародного грабежа и дележа добычи.
Пока полпа делила тряпки и дралась из-за оставленной рухляди, отцы города собрались на заседание. Здесь немедленно обнаружилось, что денег и золота не найдено никем.
— Жиды украли и золото, и серебро! В погоню!
И вооружившись топорами, шкворнями, дубьем, верхом и пешком понеслось могилевское мещанство за беглецами.
— Унясли гроши! Пирябить! Пархи!
А евреи бежали, что было мочи, растянувшись длинной лентой по направлению к реке, где их ожидали спасительные лодки. Кто падаль от слабости и страха, того хватали и несли. Несли на спинах старух мужчины, и матери — детей, и бежали, как могли, от погони, от ее диких завываний, от конского топота, от настигавшей смерти.
Но не убежали. Смерть настигла, сначала отсталых и слабых. Догнав, мещане убивали ударами железных шкворней и топоров, и грабили. Сначала нападали на взрослых, оставляя в стороне детей. Но когда заметили, что деньги спрятаны и под детским платьем, перестали щадить и их.
Рабин Тейхель тяжело и медленно ступал, неся на спине старуху мать. Две девушки-красавицы несли в тяжелом ящике свитки священной торы и семисвечники. Их нагнал тот экспансивный ратман, который спрашивал у евреев, какая от них будет городу «польза». Он не нашел своей пользы, убив всех четырех, так как Тейхель не был богат, и потому понесся дальше на своей толстой сивой кляче, махая окровавленными шкворнем и сзывая свою рать.
Главная масса беглецов собралась на месте, ныне называемом Срульки, потому что дорогу преградил неожиданно весенний поток, с шумом мчавшийся по оврагу. Иные бросались в его волны и тонули, другие в ужасе метались по холму, не зная, где искать спасенья, и где смерти. Сюда нагрянули пьяные кровью злодеи, и здесь легло, как говорят документы, четыреста еврейских душ.
Много часов продолжалось избиение и поиски разбежавшихся и попрятавшихся по ямам и кустам взрослых и детей. Их всех разыскали, всех ограбили и убили.
Солнце стояло высоко, был ясный день, день воскресения Христова, когда усталые, но довольные мещане возвратились в город, считая барыши, скрывая друг от друга барыши, принесенные святою ночью.
Дома их встретили жены и дочери, которые показывали им наряды, утварь, пуховики, — все, что удалось награбить в домах евреев.
Духовенство ходило по домам с молитвой, и славя воскресшего Христа, угощалось награбленными винами, и поздравляя со светлым праздником, говорило, что без жидов будет лучше добрым христианам и будет больше уважения христовой церкви.
И были все довольны, и радовались, отцы — награбленным деньгам, матери — хозяйственным запасам, дочери — нарядам прекрасных еврейских девушек, сыновья — лихой забаве над «жидами». Радовались все, потому что у всех была подлая, звериная душа.
Через несколько дней собрался магистрат, и, в виду того, что трупы заражают воздух, велел побросать их в весенний поток, мчавшийся по оврагу.
И поплыли вниз по оврагу, а затем по Днепру, трупы детей с разбитыми черепами, изуродованные трупы девушек и стариков, разнося по всей стране весть о том, как чтут христиане заповеди Бога, положившего душу свою за всех людей, весть о том, как празднуют они свою святую ночь.
Память об этом преступлении исчезла, потому что прошло много времени. И только в имени холма — Срульки — народ сохранил его след.
Я счел полезным рассказать старую историю в поучение потомкам, сохранившим всю звериную дикость могилевских мещан времен Батория и Ивана Грозного.
Ибо свято празднуют местами и по сей день святую ночь на Руси.
ТРУБОЧИСТЫ
Вы думаете, может быть, что о трубочистах не стоить беседовать? Но почему же?
Потому, что они маленькие люди, лазят по крышам, черны от сажи и таскают на плечах веревку с гирей?
Но разве мы-то — большие люди? Разве мы не простые обыватели? И разве унижение положения обывателя может что быть для человека, мечтавшего стать гражданином?
И тем, кто ползает в грязи и живет в темном подвале, не видя солнца, нечего презирать лазящего по крыше. Разве они не ближе к солнцу?
Я думаю также, что все мы черны. Одни от черных дел, другие от черной жизни, и вымазанный черной сажей трубочист может, думаю, как равноправный член, сесть за стол в этой черной компании.
Веревка и железная гиря? Друзья мои! Лучше иметь их на плече, чем на шее и на ноге.
Будем поэтому говорить о трубочистах и отбросим пустое чванство.
I.
Итак, Мейлах Бобицкий был трубочистом. И Сора, его жена, была женой трубочиста и яблочной торговкой. Он целый день лазил по крышам. Она целый день — осенний, грязный и дождливый день — сидела на грязном перекрестке двух переулков на Антоколе. И в результате их дети, а детей этих было ужасно много, не всегда были сыты.
Жили Бобицкие на самом конце Антоколя, во рву. Из их окон виден был высокий песчаный обрыв, и, если поднять голову повыше, — прекрасные сосны Зверинца.
Прекрасное место, — так думали по крайней мере трубочист и его жена. И прекрасная квартира, — немного кривая, немного темная, очень грязная, на песчаном косогоре, во рву — но... но у многих ведь квартиры хуже, — и потому Бобицкие каждый день благодарили Бога.
Правда, дети бывали голодны, платье их походило на жеванную рвань, и сердце родителей часто болело, потому что они любили своих грязных кривоногих детей. Поэтому они часто, ложась спать, беседовали о том, как помочь горю и достигнуть благосостояния, и процвести, как крин сельный в долине Иерихона.
Но странно, — беседы эти кончались обыкновенно ссорой. Это потому, что Мейлах всегда напирал на бездоходность яблочной торговли, а Сора видела причину в том, что Мейлах приносить домой так мало денег.
И так как женщина обыкновенно обладает большим практическим рассудком, чем мужчина, и более длинным языком к тому же, то после седьмого ребенка Мейлах начал и сам думать, что старый Каплан, трубочист-подрядчик, обижает его, Мейлаха.
Их, простых трубочистов, работало у Каплана человек пятнадцать; пятнадцать полуголодных, измазанных сажею людей, которые и в праздники не могли до чиста смыть ее с себя. Естественно, что агитационные речи Мейлаха нашли отзвук в сердцах его компаньонов, — особенно тогда, когда и на Вильно распространилось таинственное действие экономических законов, обитающих в каких-то неведомых сферах, но повышающих цены на хлеб, огурцы, на картофель, и уменьшающих месячную плату трубочистов.
Мейлах и его товарищи были хорошими трубочистами, но они были крутыми невеждами; и потому они ничего не знали об экономических законах и винили во всем подлость Каплана.
Каплан был такой же глупый трубочист, как и Мейлах. И в ответ ссылался на подлость домовладельцев и на мужиков, которые сделали все дорогим.
— Ну, и что вы от меня хотите? — кричал он. — Я и так разорен! Я вам еще рубль сбавлю. Что, вы хотите, чтобы я голый по улице пошел, чтобы я нищим сталь?
Выходил спор, в котором никто не умел разыскать виновного. Но виноватого надо было найти, так как год был действительно тяжелый. Для Мелаха виноватым мог быть только Каплан, это ясно. Это он платил сначала 9 рублей в месяц, и теперь 8. Что в том, что он ссылается на другого и третьего виноватого за собой? С них все равно не возьмешь ничего. Да и врет он. Все это только хозяйская хитрость. Хитрый он, Каплан, и подлый: — разве не он в прошлом году, когда Янкель свалился с третьего этажа и разбился на смерть и умер, зажилил у вдовы его заслуженное жалование за две недели? Разве не он...
Начали припоминать и припомнили много грехов. И раскалились душой. Ходили требовать прибавки. Ругались, грозили, — ничто не помогло.
— Да вы сделайте ему штрейк, — говорили трубочистам железнодорожные слесаря, — чего ему в зубы смотреть?
Но сделать штрейк легко, когда есть запас. А когда нет — тогда штрейк обыкновенно не удается. Поэтому не удался он и у трубочистов. И знаете, кто первый пошел к Каплану на поклон? Мейлах. Агитатор Мейлах! Это не значило, что он был плохой товарищ. Нет, — просто он очень жалел своих детей, а их было у него 7 штук. Такова жизнь!
— Ну, я других возьму, а тебя не возьму, — сказал Каплан, — ты агитатор.
И долго пришлось Мейлаху просить и кланяться и унижаться, чтобы смягчить Каплана. Поэтому он и получил теперь только 7 рублей.
— Ну, Сора, теперь уже ты выручай, — говорил он дома, укладываясь спать. — Ты подбила меня. И вот, смотри, что вышло. Теперь торгуй больше своими яблоками, а то мы пропадем.
Но Сора была женщина воинственная, и жизнь на улице дала ей множество знакомств. Всем им рассказывала она о подлости Каплана, и кляла и Каплана, и Мейлаха, и жизнь, и детей, и все.
Потому неудивительно, что она встретила, наконец, сочувственную душу, которая дала ей добрый совет.
— А вы зачем не скажете комитету? Комитет вам поможет.
Долго вечером не спали супруги. Что за комитет? Что он может сделать? Что существуют демократы, и что у них есть комитет —об этом Мейлах слышал кое что, из пятого в десятое. Но ничего толком. До того ли человеку, который живет на крышах, вымазан сажей, и у которого 7 человек детей?
Идти в комитет, или не идти? Но такие вопросы трудно решать тому, перед кем много дорог. А Мейлах знал, что у него одна дорога — на крышу.
Делал штрейк, — не удалось. Нигде ни помощи ни защиты. А тут комитет.
— Что он может помочь.
— О, комитет! Кто и поможет, если не он? У него и касса есть, он и штрейки умеет устраивать. Кто сокрушил Финкельштейна?
Таким-то образом и установилась связь трубочистов с комитетом — через Мейлаха.
Там он узнал много нового и важного, узнал, что его Каплан — капиталист и эксплуататор, что долг рабочего бороться против эксплуатации. Что нужна солидарность. Что солидарность выражается в помощи комитету и помощи комитета. Что это путь к благосостоянию и независимости.
Было бы странно, если бы все эти новые мысли и новые сведения не увлекли и не очаровали Мейлаха. Было бы еще более странно, если бы он таил их про себя и не рассказывал бы, сидя на крыше и спуская метелку с чугунной гирей в трубу, о том, чем полна была его голова и душа, своему товарищу.
Да, таким то вот образом и сделалась вся каплановская артель жертвой превратных идей.
А Каплан между тем стал жертвой правильных идей. Он вполне правильно рассудил, что несправедливо платить 8 руб. всем плохим трубочистам, когда король трубочистов, бриллиант среди трубочистов, Мейлах, получает 7. И так как времена были тяжелые, год плохой, мука дорогая, — он восстановил справедливость, сбавив всем до семи.
Тогда началась история.
История есть наука, которая рассказывает то, чего не было, и не рассказывает того, что было. Совершенно очевидно, что иначе и не может быть. Поэтому мы и не можем восстановить фактов в их истинной связи. Достаточно того, что были следующие факты.
Каплана побили два трубочиста. Их имена были известны, и частный пристав посадил их в кутузку. Потом Каплану побили окна, но кто это сделал – неизвестно, и никто за это в кутузке не сидел. Но Каплан сказал, что это комитет, и что Мейлах комитетчик. Тогда у Мейлаха и у других сделали обыск и нашли какие то листки, и Мейлаха и других отвели уже в тюрьму. А затем Каплану облили лицо серной кислотой. Таковы факты.
Те, кому такие факты ведать надлежит, сделали из них историю. Т.-е. связали их так, как связываются всякие факты всякой историей. Вышло так, что Мейлах член комитета, и что комитет, желая взбунтовать трубочистов, начал среди них агитацию, и организовал покушение на хозяина, исполненное неизвестным членом комитета, по всей вероятности, трубочистом.
Но известно, что история делается медленно. Поэтому Мейлах и его товарищи сидели в тюрьме очень долго — и весну, и лето, и осень. И все это долгое время Сора ходила со своим лотком к воротам тюрьмы и торговала там то пирогами и булками, то маковниками и яблоками, — тем, что было по сезону. В воскресенье она ходила на свидание, а в будни, продавая через решетку свои булки и яблоки арестантам, просила сказать Мейлаху и то и друггое, спрашивала его о третьем и о четвертом.
И так как это было «недозволенное сношение» — платила надзирателям и булками и яблоками.
Конечно, она дошла таким образом до предела нищеты. Но еврейское племя, — живучее, упругое племя. Поэтому, когда Мейлаху и товарищам пришлось уезжать в Восточную Сибирь, и жены пришли прощаться с мужьями, — Сора не плакала. Другие женщины ревели и малодушествовали, но Сора, сверкая громадными глазами на обтянувшемся лице в громадными зубами среди белых как бумага губ, говорила своему Мейлаху:
— Ты не горюй, мы не пропадем. Я теперь большая торговка, — ух, какая большая! Ну, и ты. Или там людей нет у в этой Сибири? Или может там совсем домов нет? Или дома без труб? Ну, ты будешь там трубы чистить, и еще подрядчиком сделаешься, и у нас будет грошей больше, чем когда либо. Не горюй!
Должно, однако, сказать, что Мейлах горевал. Горевал и малодушествовал. Что в том, что он научился петь и «Варшавянку» и «Марсельезу»? Что в том, что он прошел «политический университет»? Он, привыкший к крышам и чистому воздуху с доброй примесью черной сажи, совсем завял в четырех стенах под низкими сводами и жил охваченный тоской и страхом за себя и за детей и за храбрую Сору.
И он был прав. Потому что между виленской крышей и Восточной Сибирью не только большое расстояние, но и большая разница.
II.
Бледный и опухший вышел Мейлах из тюрьмы. И так же растерянно, как и он, смотрели вокруг те трубочисты, которые вместе с ним отправлялись в Москву.
В Москве, в центральной пересыльной тюрьме их встретил старший надзиратель по политическому отделению, Акимыч. Акимыч 30 лет служил старшим надзирателем и знал тюрьму лучше, чем свои пять пальцев. Всех проходивших через его руки людей он классифицировал на основании признаков, известных ему из его долгого изучения различных сортов крамольников.
— Это, вот, настоящий господин, — говорил он, глядя на арестанта, и вел его в «северную» башню, запирал особенно тщательно и шептал дежурному надзирателю:
— Посматривай!
Других он, ковыляя на больных ногах и добродушно поблескивая глазами из нод нависших бровей, вел в общую камеру полицейской» башни, запирал сообща и про себя думал:
— Народ... тоже! куда рак с клешней...
Увидя виленских трубочистов, о которых в «препроводительных бумагах» были написаны не малые ужасы, он решил:
— Шантрапа!
И так как тюрьма была переполнена и мест было мало, — он отвел их в большую общую камеру, где сидело уже человек двадцать уголовных, и, запирая, сказал им:
— Сидите здесь... Сычи!
Это сычи, ведь, смотрят днем невидящими вытаращенными глазами, — как испуганный Мейлах.
В московской тюрьме «сычам» пришлось туго. Во-первых, надо сказать, что ни на каком языке, кроме жаргона, они толком не умели говорить. По-польски они кое-что еще маракали; но Мейлах, выросший в еврейском гетто и с 10 лет работавший в еврейской артели, знал по-русски только десяток - другой слов.
В Вильне их еще понимала тюремная стража, набранная преимущественно из местных людей, но в Москве они оказались почти без языка. Это во-первых.
Во-вторых, среди тюремных «Иванов» быть может и можно жить, но для этого надо иметь крепкие зубы или нравственный авторитет. Всякое общество, а следовательно и тюремное, уважает силу и чему-нибудь покланяется. Но у «сычей» не было ни силы, ни способности импонировать тюремно-уголовному сброду.
Поэтому тюремные волки загнали этих тюремных овец в угол, окружили их кольцом презрении, и стригли, как только могли. Довольно трудно вести при этаких условиях борьбу за существование, и трубочисты думали, что для них настали последние дни.
— Эй, вы, жиды, выноси парашку, орал на них камерный староста, матерой бродяга. И Мейлах послушно шел...
— Ой, ты! не суйся прежде отца с матерью в петлю! Дай людям поесть. Поспеешь налопаться.
И ели они одни объедки.
Половину вещей раскрали. Многое отняли силой.
— И куда тебе, жидовской морде, на подушке спать! Ишь, в пуху весь вывалялся!
И подушка, которую любовно набивала пером Сора, поступала в распоряжение «Ивана».
Сычи пробовали отстаивать свое добро, — их побили; пробовали жаловаться, — путая слова, перебивая друг друга, они наливали свое горе и свою обиду какому-нибудь надзирателю, мешая слова трех языков.
— Да что вы их слушаете, Николай Иванович. Первые сквалыжники... Уберите их от нас Христа-ради. Всю камеру изгадили, жить с ними, с проклятыми, невозможно.
И долго слушая, и ничего не понимая, надзиратель наконец отходил, махнув рукой, и потом делился мыслями с товарищами.
— Не разбери, чего лопочут... тоже — политические!
Так прожили, если это можно назвать жизнью, паши сычи до весны. Весной их отправили в большой арестантской партии в Сибирь. Сидели в Самаре. Сидели в Красноярске. Сидели в Александровской тюрьме. Целый год прошел в этом тюремном шатании, в ночевках по этапам. И так как репутация человека складывается один раз и, сложившись, трудно поддастся изменению, то в течение всего этого года во всевозможных партиях, в которых им приходилось сидеть и ходить, наши трубочисты играли роль париев, терпели прозрение и обиды.
Сведущие люди рассказывают про курицу, что если ее загнать в угол и очень напугать, то случается, что и курица клюнет. Надо ли удивляться, что настал момент, когда наши до конца вымотанные, изнервничавшиеся, потерявшие всякое душевное равновесие трубочисты устроили скандал, на который никто не считал их способными.
Дело было так. Стоял лютый сибирский мороз в 50 градусов, когда партия человек в двадцать отправилась из Александровской тюрьмы вниз по Лене. Ехали на подводах, медленно от села к селу, мерзли жестоко, так как собственное платье износилось, а арестантские полушубки плохо греют человеческое тело. Так, кое-как добрались до большого приленского села, где, как они знали, живут товарищи, можно получить помощь, деньги, провизию.
— Мы хотим повидаться здесь с товарищами.
— Нельзя.
— Позвольте, пожалуйста, мы очень нуждаемся. Позвольте...
— Не приказано. Нельзя.
— Ну, мы не поедем.
— Что?!
— Ну, да! Мы не поедем. Что вы думаете, что мы не люди? Мы! мы! мы!..
В добрых людях вдруг загорелся огонь возмущения. Махали руками, сверкали глазами, говорили все разом, истерически кричали. Все были во власти охватившего их нервоза, готовые драться, готовые умереть. Сразу сказалась вся долго скопившаяся боль, вся обида от бесконечных скитаний, унижений, от этой подлой тюремной жизни.
— Ишь, беснуются, дьяволы! сказал долго с удивлением и злобой смотревший на них жандармский унтер-офицер, плюнул и выгнать в другую комнату.
— Что с ими делать? спросил он у урядника.
— А что на них глядеть. Вот подойдут подводы. Скажу мужикам, они их живо скрутят... повезем.
— Повезем..., успокоительно заговорил староста. Ох, Господи! зевнул он и перекрестил рот. Возют, возют... спокою от них нет, от проклятых...
Приехали подводы. Человек десять больших тяжелых чалдонов, в громадных вывороченных мехом наружу тулупах, набились в сени и бранились, что теряют время.
— Выходи, что ли, — говорили они уряднику.
— Не идут, в том и дело. Выволочить надо, видно. Ну, ребята, беритесь...
Чалдоны нехотя вошли в комнату, где, сбившись в кучу в угол, кричала и кривлялась дюжина черных, оборвавшись сумасшедших существ.
— Выходи!
Но они сбились еще тесней, сцепились руками и вдруг... вдруг запели свою марсельезу.
В мире все имеет две стороны. Героизмом отчаяния вызвано было это дикое пение. Всю свою святую решимость отстоять свою личность, свое право, свое человеческое достоинство от грубого насилия вложили трубочисты в нестройные вопли, в гордые слова песни.
Но для лесных чалдонов, покорителей природы, пропал и остался непонятен этот взрыв человеческих чувств. Они видели перед собой дико и нелепо воющих обезьян. Черт их нагнал сюда, и так от них нет покоя, вози туда, вози сюда, отрывайся от своего дела, а тут еще шумят, орут, бесчинствуют.
— Ишь, нечисть... Что делают, что делают!
— Ну, чего горло дерете? Выходи, не то поволочем. Выходи!
Но обращаться к людям, охваченным экстазом, — все равно, что обращаться к горе или лесу.
Тогда староста, большой кряжистый мужик, подмигнул глазом другим мужикам и громадной железной рукой ухватил Мейлаха за плечо и потащил к двери.
Дикий безумный крик пронесся над обрывками марсельезы, еще дребезжавшей и хрипевшей под низким потолком. Лампа упала и разбилась, и в наступившей тьме началось что-то невообразимое. Бои буйволов с дикими кошками. Визжа, цепляясь за лавки, за ноги, кусаясь, извивалась на полу одна сторона. Пыхтя и сопя, хрипло ругаясь, давила и вязала их кушаками — другая.
Огня! Тащи огня! Ишь, погань, — кусается... Дядя Митрий, давай кушак, крути назад... Дрянь! Я тс покусаюсь...
Через четверть часа сражение было кончено. Все «жиды» лежали на полу с туго-натуго затянутыми за спину руками и с связанными ногами. Истерзанные, полуголые, дикие, тяжело дышащие — лежали они рядами. Одни молча и конвульсивно вырывались из веревок, хрипели и скрежетали зубами. Другие тихо стонали. Кто-то плакал.
Чалдоны отерли пот, оправились, вышли на улицу. Приходили, уходили. Ругались. Через час начали выносить связанных, беря их за руки и за ноги и бросая в сани на солому. Потом навалили, куда попало вещички их, подобранные на полу, закрыли связанных шубами и халатами, сели и поехали...
Позади ехал жандармский унтер с урядниками. Перед ним тянулась вереница саней с двумя преступниками на каждых. Открывали процессию еще два жандарма и десятский. Ехали где шагом, где трюшком, мало думая о том, что живая, полуголая кладь дрогнет и мерзнет на лютом морозе.
Мейлах лежал, зарывшись в солому, закрытый тулупом. С нечеловеческими усилиями, ломая ногти, сдирая кожу, вертел он за спиною руками, туго связанными поясом. И когда проехали десять верст, одна окровавленная рука у него была свободна. Тогда он начал тихонько, незаметно подтягивать ноги и ковырять веревочные узлы, которыми они были связаны.
Спускались с горы, в лесистый овраг, когда вдруг из третьих саней с криком выскочил человек в одной разорванной жилетке, без шайки, и, махая руками, побежал вниз по снежному скату, в лес.
— Стой! Стой! Убег, проклятый! Держи!
Жандарм, урядник, еще несколько человек бросились догонять. Бежать в кунгурских валенках, в тяжелых шубах и шинелях было тяжело. Полуголый человек летел впереди быстро. Временами падал, вставал, стукался с разбегу о деревья, снова валился в снег и снова бежал, все дальше и дальше, в дикий лес, в тайгу, неизвестно куда, — но только прочь от людей, от пережитого ужаса.
Из догонявших его, чалдоны скоро отстали. Была нужда гоняться! Толстый жандарм пыхтел и подвигался тихо. Только один урядник, жилистый, сухой человек, держался ближе к беглецу. Но, наконец, и он не мог бежать, схватился рукою за сердце и остановился. Поглядел беспомощно назад, поглядел вслед Мейлаху...
— А, сучий сын, уйдет!
И вынув машинально револьвер, выстрелил ему вслед.
Мейлах только что перед тем упал, но вскочил опять и, махая над головой руками, побежал дальше. После выстрела он замахал руками еще быстрее, поднял их еще выше и, пробежав еще несколько шагов, сунулся лицом в снег и остался лежать неподвижно.
С Мейлахом было кончено.
С остальными... Остальные кончили различно. Всех посадили в тюрьму. Двое умерли от горячки, схваченной во время этого переезда. Про одного говорили, что он сошел с ума, Остальных развезли по селам и городишкам, но ни одному не пришлось более чистить трубы. В сибирских селах это делают изредка сами крестьяне.
Но один попавший в Киренск, сделался печником, делал скверные печи, однако, зарабатывал хорошие деньги. И когда его жена, жившая тоже на Антоколе, получала от него письма и деньги, Сора тяжело вздыхала и говорила:
— Бывает людям счастье!.. А мне, бедной и с малыми детьми, — одно горе...
Вот и все, читатель.
Вы видите, что я был прав, говоря, что трубочисты — предмет достойный внимания. Вся их эпопея — цепь дел и событий, связанных между собою тесной связью логической и социальной необходимости. И ничего необычайного, ничего оригинального. Со всяким из нас, кто вступят нечаянно на ложную стезю искания лучшей жизни, может случиться все то, что случилось с Мейлахом и его товарищами.
Дело бытописателя — изложить события.
Дело мыслителя — вывести заключение.
Разные мыслители заключают различно.
В ЗАЩИТУ ИСПРАВНИКОВ
По газетным сведениям, березовский исправник, в наказание за побеги ссыльных, уволен от должности. Это очень жестоко и очень несправедливо. Говорят, — исправник не досмотрел. Говорят потому, что обвинять, вообще, легко; а каково «досмотреть»? Я уверен, что если бы исправником в Березове, сделать кого-нибудь из министров или губернаторов, ссыльные бежали бы еще легче, чем из под надзора того исправника из полицейских приказных, который теперь оплакивает свою судьбу, — судьбу «жертвы революции» sui generis.
Вы думаете, быть может, что мое утверждение голословно? Но ведь я много лет провел под надзором полиции в самых гиблых местах севера России и Сибири; я претерпел штук 20 исправников; в свое время достаточно воевал с ними и, говоря откровенно, терпеть не мог эту породу людей. Я, таким образом, в некотором роде «эксперт». Думаю поэтому, что моя защита исправников свободна от упрека в пристрастии, во-первых; основана на действительном знакомстве с делом, во-вторых.
Но если всего этого мало, — попытаюсь, хотя в общих чертах, воссоздать ту обстановку, в которой совершаются побеги и уловления. Затем судите сами.
Жизнь в глухих северных городишках, мало населенных и бедных, течет убийственно скучно и монотонно. Скучно и монотонно для невольных обитателей города — надзирающей полиции и поднадзорных ссыльных.
Обыватели, — те заняты «борьбой с природой». В Кеми, Онеге, Мезени, Березове, Обдорске и т. д.. и т. д. мужчины всю весну и лето в море, зимой — в извозе. В Яренске, Сольвычегодске в лесу, на промыслах.
Поэтому чиновник, а в том числе и исправник, всегда только скучавший бездельник, убивающей время за картами и бутылкой. Народ же — смелый, закаленный, свободолюбивый; часто раскольник, не мало терпевший еще недавно от «гонителей-Иродов»; часто дикарь-кочевник.
Можно с уверенностью сказать, что политический ссыльный, страдающий «за свою веру», легче находит доступ к уму и сердцу этого свободного и смелого народа, чем господин исправник с присными. Тем более, что вообще-то у господ исправников, отбывающих службу в гиблых местах, наблюдается стремление отыскать дорогу к обывательскому карману, а не к уму и сердцу. Естественно, что, заглянув раз и другой в чужой карман он находить дверь в сердце запертой на ключ.
Итак, провинциальному исправнику к тому небольшому полицейскому механизму, который находится в его распоряжении приходится держать «под надзором» и вести тихую, но неустанную борьбу, во-первых, с колонией ссыльных, коллективный разум, — и недурной разум, — которой усиленно работает всегда над одним вопросом: — бежать! А во-вторых, с «общественным сочувствием» к крамольникам.
Какие же средства имеются у полиции? Во-первых, внешние караулы; во-вторых, надзиратели, посещающие квартиры; в-третьих тайные агенты; в-четвертых, надзор квартирохозяев; в-пятых, — перлюстрация писем.
Все эти средства применялись всегда и всюду, и, может быть, они и были бы целесообразны, если бы...
Вот, например, я жил в Сольвычегодске. И был там исправник строгий и дошлый, г. Кульчицкий, бывший офицер воспитатель кадетского корпуса, за подлый, противоестественный грех лишенный прав состояния и сосланный на поселение; потом уже в качестве полицейского сыщика он открыл в Устюге, кажется, фабрику фальшивой монеты; прощенный, он дослужился, наконец, до исправничьего места.
Нас, ссыльных, было шесть человек, жили мы вместе в одном доме, у обоих выходов которого стояли денно и нощно двое городовых, двое обнищавших сольвычегодских мещан, одетых в полицейские шинели и старые тулупы.
В метель и вьюгу, в мороз и дождь, в долгую северную зимнюю ночь — стояли они чередуясь с двумя другими, такими же страстотерпцами, и караулили нас, ласковых, славных людей, которые охотно поили их чаем, иногда водочкой, давали им книжки, никогда не ругали их. Естественно, что в результате; долгого знакомства и обмены услуг они и дрова нам рубили, и воду возили; ни о каком «надзоре» не могло быть и речи.
— Уж мы, А. С., седни калавурить вас не будем. Ноне Синичкин дежурный, — поверять не будет. Счастливо оставаться.
— Мороз! — говорить другой раз наш страж. — Бида, какой мороз. Сту-ужа, а уйтить нельзя. Бизпременно с. сын поверять будет. Такой дошлый, — пропасти не него нет! Дозвольте на куфне погреться.
Поэтому, конечно, когда пять моих товарищей вздумали «бежать», — они спокойно уехали, а две смены караульных, всего 4 человека, тринадцать дней караулили меня одного, и заметили «пропажу» только тогда, когда я сам им сказал.
Их, конечно, уволили; при этом очень много ругали, очень грозили. Я отдал им, в возмещение убытков, кажется, сорок рублей, и они были очень довольны.
— Теперя к лету. Нам ничего. Еще даже лучше. Чем неведомо что калавурить, мы рыбой займемся... А как насчет Андрей Васильевича? Благополучно?
— Благополучно.
— Ну, и славу Богу...
Надзиратели, так называемые «духи», ходят с книжкой, в которой каждый ссыльный должен собственноручно расписаться, собственнолично показавшись «духу». Так — по правилам.
Но не было ни одного города, где бы когда либо эго правило соблюдалось больше, скажем, месяца после какого-нибудь инцидента.
Затем вступает в права обычный порядок: записываются за несколько дней вперед или назад, записываются за себя и за товарищей, «в лицо» духу не показываются. Такой порядок опирается иногда на халатность «духа», иногда на физическую невозможность застать всех дома, иногда на «трешницу», иногда на угрозу спустить с лестницы. Бумажный контроль — бумажным и остается.
Еще труднее организовать внутренний шпионаж. Один веселый опыт я, однако, знаю. Дело было в Мезени. Бежали двое товарищей — Кац и Преферанский, бежали в Норвегию на рыболовной лодке, отвозившей груз рыбы в Варде. После того начались строгости и полицейская мысль пошла на хитрости.
Жиль тогда в Мезени в ссылке сельский адвокат, подпольный кляузник, высланный в качестве «политического» потому, что задрался с полицией. В ссылке он отдавал стирать белье одной гулящей бабенке, а затем взял ее к себе «вместо хозяйки».
Аксинье понравилась такая перемена социального положения. Всегда сыта, в своем дому — хозяйка, хозяин, — «политический», хотя и рodleichego gatunku, но все же политический. Кто же она? Конечно, и она политическая. Это тот самый ход мыслей, который супругу чиновника, дослужившегося до губернатора, делает губернаторшей, а супругу наместника — наместницей.
В качестве супруги, хотя и морганатической, — но кто интересуется этими тонкостями в гиблых местах? — Аксинья ходила ежемесячно в полицию и получала «жалование» — те 6 рублей, которые причитались ее мужу. В своим, хозяйственных расчетах она привыкла рассчитывать на эти 6 рублей, привыкла распоряжаться ими, как своей собственностью. Так шло и год, и два, пока на политическом горизонте не взошла звезда Лорис-Меликова.
Для Аксиньи это было событием величайшей важности и причиной больших неприятностей. Проникнутый идеями широких политических реформ, Лорис-Меликов возвратил на родину Аксиньиного «хозяина» и ввергнул Аксинью в первобытное состояние гулящей прачки. Так превратно отражаются на судьбе управляемых благороднейшие порывы управляющих.
Аксинья ужасно много ревела. Поносила политику, в лице покинувшего ее «злодея» и давшего ему свободу министра — тоже, по меньшей мере, негодяя. Когда же настало первое число, она отправилась в полицию, по старому многолетнему обычаю, за «жалованием». Там произошел следующий разговор.
— Ты чего?
— А за жалованием.
— За каким?
— А за своим, за шестью рублями...
— Иван Иванович, какие ей шесть рублей?
— А это верно Селезневские. Она за Селезнева всегда получала. Да он ведь выехал...
— Аа! Ступай, ступай, матушка...
— Куда ступай! Вы деньги пожалуйте, а уж тогда гоните.
— Какие деньги?
— Да мои, что я завсегда получала...
— Да ты за кого получала? Если б ты, чертова перечница, была сама политическая, если бы ты совершила политическое преступление — ну, другое дело... Ступай!
— А кто же я, как не политическая? Сколько годов жила... Вот сказали! Кто ж и политическая, когда не я? Подавайте мои деньги!
— Захаров! Гони се в шею.
Но это было не так то легко. Аксинья уцепилась за красное сукно. Захаров тащил Аксинью, Аксинья тащила сукно, и колебала зерцало, и все законы, написанные на нем, при этом плакала и скверно ругалась, поносила властей и Бога.
Исправником был тогда кн. Крапоткин, человек деликатного воспитания. Он, зажав уши, кричал:
— Уберите эту дрянь! Уберите ее скорее!
Захаров лез из кожи, и общими с Аксиньей усилиями стащил зерцало со стола. Оно с грохотом покатилось, ломая золоченые украшения и теряя стекла. Прибежали писаря и начали поднимать осколки и бумаги. А Аксинья тем временем вырвалась из рук Захарова, и разъяренная борьбой и охваченная инстинктом разрушения, а может быть, и почувствовавшая, что она творить нечто «политическое», схватила пепельницу и пустила ею в «портрет», схватила чернильницу — и в окно. «Блистая очима», вся расхлюстанная и растрепанная, стояла она «на развалинах Карфагена» и вопила:
— Вот вам и не политическая! Вот вам и не политическая!
Конечно, хотя Мезень и очень далеко, но законы так общерусские, поэтому Аксинью должны были отвести в каталажку, переломать там два или три ребра, для науки, составить протокол, отдать под суд, сделать попытку возместить казенные убытки. Но, как я сказал, перед тем бежали Кац и Преферанский, и это дало ходу полицейской мысли особенный оборот.
Помощником исправника служил тогда Ничипоренко, хохол. Это происхождение в его глазах служило ручательством необыкновенной проницательности его ума. Что ему ни говори, бывало, о чем ни проси, — он хитро подмигивает заплывшим глазом и ворчит:
— О це так! так! Ну, москаля, мабуть, обманили бы. Та я не москаль, а хохол, было бы вам известно.
И вот в пронзительнейшем уме этого политика созрел такой план. Государственное преступление, совершенное этой глупой бабой, налицо. Дать ему ход и бабу запугать. Каторгой, чем угодно. Обещать снисхождение, если будет доносить все, что делается и замышляется у политических. А чтобы добродетель не оставалась без награды, и чтобы приохотить Аксинью, — дать ей ее шесть рублей пособия. Благо, совершенное политическое преступление одновременно давало основание взять ее под надзор полиции, и с другой стороны, вводило ее в круг политических поднадзорных, в качестве равноправного члена.
Спустившись в каталажку, Ничипоренко привел план в исполнение. Пугал бабу, как только умел. Обещал ей затем все «небесные мигдалы», если она будет стараться. И, наконец, возвел ее в звание, дающее право на пособие.
Баба немножко сначала перетрусила. Все, что нужно, обещала. И получив свои шесть рублей, успокоилась и отправилась к нам.
— Ишь, погань какая, — говорила она, сидя у нас, на кухне, — хотели жалование мое в свой карман... Ну, да я не такая! Я им всю карцелярию разворотила, — выдали! В политические пописали. Ироды' Белье стирать есть, что ли? Кода есть, — то давайте!
Мы очень смеялись. И, конечно, расспрашивали, что, да как. Но Аксинья говорила что-то мало понятное.
— Сволок меня Захаров в каталажку; за косу сволок... Ну, погоди ж ты! Я тебе, лысому, так этого дела не оставлю! Ну, потом бумагу читали. А там толстопузый этот пришел. Пужать зачал. Я тебя, говорить, в кандалы, у каторгу. А потом, говорить, будем тебе способие выдавать, а ты нам все докладай, что у политических будет. А, ну их! Всего не переслушаешь.
— А пособие, действительно, выдали?
— А то как же? Пущай бы не выдали...
Итак, Аксинья сделалась форменной поднадзорной, получала из месяца в месяц свое жалованье за шпионаж и мыла нам грязное белье. Что она докладывала Ничипоренко — не знаю, знаю только, что когда одному товарищу пришла охота убраться из Мезени, Аксинья напекла и наварила ему, выстирала белье, и наш друг преспокойно уехал в устье Мезени на норвежский корабль. Когда начались обыски и Ничипоренко явился к норвежцам на корабль, нашего друга закатали в парус и подняли на рею, Ничипоренко дали бутылку рому, и когда он потерял все пять чувств, свезли его на лодке на берег: тем дело и кончилось.
Надзор квартирохозяев! Если бы все квартирохозяева были прирожденными полициантами! Но ведь этого нет.
Я помню, я жил в Мариинске у сапожника, философа и мудреца.
— Проходу не дают, — говорить он раз, заходя ко мне в комнату, — все в полицию зовут, велят за вами смотреть, чтобы не сбежали. Да что, на воздушном шаре ему улететь, что ли? — спрашиваю. Ну, на воздушном!, или без воздушного, а ты смотри. — отвечают. — Надоели, право.
Мысль была подана. Когда через несколько дней ко мне заявился околоточный и, конфузливо потирая руки, стал спрашивать, как я поживаю, и что делаю, — я, стоя за столярным верстаком, ответил ему: да, вот, мастерю воздушный шар.
— Как так воздушный шар? Зачем? Ну, я объяснил ему все. Показал кусок канаусу и растолковал, что его надо будет пропитать особым составом, который уже выписан. Потом в имевшемся у меня альбоме ветряных двигателей показал ему чертежи крыльев и всей оснастки шара. А затем рассказал, что на воздушном шаре можно при современном состоянии науки не только самому улететь, но и исправника, например, увезти.
Я баловался, а околоточный растерянно смотрел в непонятные чертежи и слушал непонятные рассказы о водороде и т. д. и не знал, чему верить и чему нет.
Тем не менее, как это ни невероятно, к моей квартире приставили полицейский пост, а хозяина обязали подпиской немедленно известить полицию, когда воздушный шар мой будет готов.
И пока, таким образом, усиленно следили за мной, из города преспокойно в тарантасе уехать политический ссыльный Лаговский, тот самый, который потом десять лет административно сидел в Шлиссельбурге.
— Дураки! — говорю я моему хозяину. А он хохочет и отвечает:
— А я, признаться, им докладывал про наш шар. Надувает, говорю им, каждый день надувает!..
Вы видите, что надзор за политическими — не легкое дело. Почти невозможное там, где их окружает атмосфера общественного сочувствия. А теперь, когда ссылают тысячи и десятки тысяч, общественное и народное сочувствие не может не быть на стороне политических ссыльных.
Чем же виноваты исправники? Что могут они поделать?
Если вы хотите, чтобы не было побегов, — отдайте всех русских граждан под надзор полиции так, чтобы, где бы человек ни жил, он все равно был бы как бы в ссылке. Другого средства нет.
В СТРАНЕ ДАЛЕКОЙ
Добрые друзья часто упрекают меня за отсутствие органического, инстинктивного уважения к власти. Они говорят — в упрек мне, — что это чувство неотъемлемо от западноевропейца; говорят, что склонность уважать власть возрастает в гражданах параллельно с ростом «гражданственности» и политической культуры. Отсутствие же этого чувства свидетельствует о состоянии, близком к варварству.
Когда ко мне обращаются с такой тяжеловесной аргументацией, я, обыкновенно, робко и сконфуженно склоняю голову. Но про себя думаю: а разве я виноват, что около меня не было «гражданственности», и что во мне не выросло инстинктивное уважение к власти?
Все зависит от обстановки. Окидывая мысленным оком прожитую жизнь, и вспоминая специально те семнадцать лет, которые я провел во власти различных уездных и улусных правительств, воспитывавших мои политические чувства, — я удивляюсь не тому, чему удивляются мои друзья, а тому, как я не сделался анархистом.
Я жил в Вельске, в Сольвычегодске, в Чаусах, жил в Мезени, в Ишиме и Мариинске, жил в Якутске и в Якутских улусах, жил в Енисейске и в Верхоянске, в том Верхоянске, в котором постоянно обитает полюсь холода, где 5 месяцев подряд термометр не поднимается выше — 60° Цельсия, где пуд гнилой муки стоить 5 р. 50 к.
В каждой из этих трущоб надо мной стояла власть в лице советников, исправников и их присных, власть, облеченная по отношению ко мне генерал-губернаторскими правами. И, Боже мой, каких только этих генерал-губернаторов я ни видал!.. Старых и молодых, глупых и умных, плаксивых и зверски жестоких, вороватых и плутоватых, либеральных и клерикальных, и даже безумных! И всех я их претерпел, не замерз на полюсе холода, не пал от руки моих правительств; а вернувшись сюда, в благословенную Россию, не только оказался способным наслаждаться мирными радостями культурной жизни, но даже с чувством почти родственного расположения вспоминаю о моих захолустных правителях!
С родственным расположением, но, правда, без инстинктивного уважения.
Однако, можно ли меня за это упрекать? Чтобы рассеять сомнения, расскажу об одном из сих громовержцев.
Это был очень глухой и очень отдаленный город, населенный объинородившимися казаками и не обрусевшими инородцами. Невежественный и нищий, безграмотный и голодный.
Настоящая Россия!
Жил он под властью губернатора, который, как пушкинский царь-Никита, «не творил добра, ни зла» и потому «земля его цвела» плесенью, которую не он посеял, но которой зато он и не тревожил. Тревожили ее мы, невольные поселенцы, приносивши на далекий Восток вкусы, навыки и привычки культурного Запада.
Инородцы, туго и недоверчиво, но поддавались некоторому общему влиянию пришельцев. Поколение этих последних сменялось одно за другим, но грамота, которую они сеяли, книга и коса, хлебные зерна и огородные семена, которые они выписывали — оставались. И можно было жить.
Можно было жить, пока не приехал к нам вице-губернатор, — новый вице-губернатор, маленький, черненький и юркий, с болонкой и женой — бывшей танцовщицей, через которую он и попал в люди.
Прежде чем стать «персоной», он был чиновником департамента полиции, сначала по внутреннему, а потом по иностранному сыску, и, вероятно, так и положил бы живот на этой почетной должности, если бы кому-то не понадобилось выдать замуж и сослать с глаз долой надоевшую балерину. Так и приехали они оба к нам на край света, она — с болонкой, он с губернаторскими штанами в чемодане. Это последнее обстоятельство стало вскоре известно всему городу, ровно и то, что «вицу» собирается ссадить губернатора и укрепиться на его месте.
— Для того и штаны белые с золотом привез.
И действительно. Вскоре же губернатор уехал в отпуск, а тот остался управлять губернией.
И управлял! Положим, губерния пустынная, бездорожная, инородческая и нищая...
Но ведь все-таки и там имеются люди, и, чтобы управлять ими, надо иметь хоть чуточку знаний...
А что мог узнать человек, всю жизнь проходивший в гороховом пальто? В лучшем случае он знал, как подсматривать, как делать обыски, как препровождать в тюрьму, как стряпать доносы, фальшивые и настоящие. Затем, если он «во дни ничтожества» водил компанию с околодочными, — то знать, как лупить по морде, как вышибать душу и бить под девятое ребро. В этом была вся его наука. Он был, следовательно, невежествен. И, хотя вместе с тем он был старателен и любил всем своим ссохлым сердцем эту свою науку, — тем не менее — разве мог он управлять губернией? Конечно, нет.
Но жаждал он власти страстно. И судьба дала этой обезьяне власть на целый год, на все время губернаторского отпуска, и удивленная окраина целый год не знала, что ей делать: хохотать ли, или плакать, или взять веревку и палку, отдуть, связать и запереть в какую-нибудь клеть эту карикатуру на человека.
Как бы ни был убог человек, он не может жить без теорий и обобщений. Наш помпадур создал тоже себе теорию, согласную со всем своим сыскным прошлым и с тем обстоятельством, что окраина наша была искони ссыльным местом, и населена инородцами.
Поэтому теория гласила: здесь все неблагонадежно, все развращено революционерами и социалистами.
— «Истребим!» сказал себе наш временный владыка, и начал истреблять.
Наука истребления проста и несложна и стара, как мир. От всех остальных наук она отличается тем, что способна только к прогрессу техническому, прогрессу лишь в приемах и способах. Методы совершенствуются, но содержание науки остается все то же. Она делится на два отдела. Отдел первый: наука о выслеживании; отдел второй: наука собственно об истреблении.
Для выслеживания нужны «следопыты». Кто читал рассказы Фенимора Купера, тот знает, что особенно искусны в следопытстве дикари, дикари-охотники и воины. Тихо, как змеи, и быстро, как лани, умеют они ползать на брюхе и подкарауливать врага, или дичь. Современные следопыты, хотя и продолжают пресмыкаться, но делают это далеко не столь искусно, о чем и смотри ниже. Наука о «собственно истреблении», конечно, сделала больше успехов. Прежде дикарь, изловив врага, танцевал вокруг него танец победителя, издавал ужасающие крики торжества, снимал скальп и разбивал череп дубиной. Иногда ему при этом помогали его жена и дети.
Теперь это дело совершается и разнообразнее и торжественнее, и в размерах, которым мог бы позавидовать любой «Кровавое Сердце», или «Очковая Змея».
Вернемся, однако, к нашему герою. Прежде всего ему нужно было организовать «следопытство». И так как это соответствовало влечению его души, — то он отдался делу со всем увлечением артиста. В городе начали через неделю говорить о том, что у «вицероя» заседает какой-то комитет, что за всеми «особами», не пожелавшими принять участие в нем, смотрят следопыты, что под окнами дежурят казаки, переодетые в «барнаулки» и т. д.
Старый, полуслепой казак-надзиратель, удостоверявшийся раз в месяц, не испарились ли мы из мест нашего прикрепления, начал бегать к нам каждый день и клясть предержащая власти на чем свет стоить:
— Боже мой, Боже мой, — говорил он, — порядки же пошли! Каждый день ходи, каждый день видай, под окном стой, куда ходят — примечай! Стар я, говорю я им, не сила моя; рамы-то в окнах тройные, глух я, все равно не услышу... А они мне што? Убирайся, говорят, старая кочерга, молодого на твое место найдем...
Его, конечно, скоро сменили. Какие-то юркие люди в барнаулках и инородческих малахаях толклись под окнами, загороженными тройными рамами, или четырехвершковой льдиной; говорили, что и по «гостиным» шныряют «агенты» высшего разбора. Все это было глупо, все это изумляло бездельностью, но все это были лишь цветочки.
— Слыхали новость, спрашивает меня мой знакомый, вицероя-то солдаты сегодня отколотили, мне доктор говорил: чуть жив!
— Как так?
— Он теперь сам ходить по ночам и смотрит. Демонстрирует для местных людей западноевропейские приемы следопытства. Костюмируется, гримируется и ищет. Вчера и пойди он к пороховым погребам наблюдать, все ли в порядке, и тверды ли караульные в присяге! Пошел и начал соблазнять солдат, не позволять ли похитить пороху. Ну, караульные сгребли его и проводили до города, да все время прикладами в шею, в шею. Уже он им открылся: вот кто я! Не верят. Разве, говорят, они такие бывают? Да в шею! Замертво у моста и бросили его...
А через неделю — новый рассказ: кувшинниковские молодцы ему накостыляли. У них была вечеринка, а он и затесался в сени.
Потом слух: поймали ночью на улице, завезли на дачу, обмазали смолой и обваляли в перьях, да в таком виде и привезли домой к балерине и болонке.
Что тут было правда, и что вранье, — сказать трудно. Но жизнь скучна в захолустьях, поэтому принимали за правду, и хохотали, и веселились до упаду. Конечно, это было неуважением к правительствующей власти и потому...
И потому один из местных доктор зубоскал, и «друг» невольных обитателей сих мест — вдруг был уволен по 3 пункту. Легко сказать!
— За что? Этот вопрос был у всех на устах.
— За то, что зубоскалил, отвечали осведомленные люди.
Дело становилось серьезным. Потом, немного погодя, полицеймейстер получил приглашение подать в отставку. А он быль должен во всех лавках и во всех винных погребах.
— Помилуйте, я ему разве доверял? Я его должности веру имел. А теперь мои денежки пропасть должны? Нет, благодарю покорно, — так изливал мне свое негодование купец Ерастов.
— Ты, если тебе нужно, своих чинушей подтягивай, а торговлю не подрывай! Семь сот за им ведь у меня! — аргументировал виноторговец Громов.
Медицинский инспектор хватался за виски:
— Помилуйте! У меня все оспопрививатели ссыльные, все фельдшера-ссыльные, в 2-х участках врачи ссыльные; он, ведь, всех их разогнал и разослал по, черт его знает, каким дырам. Ведь у меня на губернию, больше Франции величиной, остались один врач и один фельдшер!
Время шло и вопль начинал становиться всеобщим. Купчиха Кушнарева вопила, что закрыли устроенную ею школу; архитектор, который прокладывал новый тракт через пустыню к далекому морю, полетел к черту, потому что изыскания вели ссыльные; у ветеринара отняли фельдшеров; в суде начал распоряжаться полицеймейстер: наконец, народ — инородческий народ переживал тогда особенное время. Настоящий губернатор (не вице) затеял незадолго перед тем «земельную реформу». Цель ее была в том, чтобы помешать сосредоточению земли в руках инородческой аристократии в ущерб массе. Реформу он поручил обсуждать на инородческих сходах, вызывал депутатов, собирал совещания. Так как дело затрагивало важные интересы населения, — то инородец волновался и собирался и толковал.
— Вот они плоды крамолы! Социализм насаждать где вздумали! Все ведь это они, все социалисты! Они составили проект, они оседлали губернатора, они мутят население! Прекратить!
Это распоряжение — «прекратить»! докатилось до моего заседателя. Можете себе представить, что из него вышло? Конечно, для этого надо знать, что за персона был мой заседатель в глухом диком улусе... Чтобы определить полноту власти, говорят: «он царь и Бог». Мой заседатель был больше и Бога и царя,. Он делал все, что хотел: бил по лицу попадью, за то, что та обыграла его в карты; выдрал бороду у одного «тайона», за то, что тот обогнал его на состязании «бегунов», — и все в таком роде. И вот ему сказано:
— Во что бы то ни стало прекратить!
— «Вопль поднялся тогда по всей стране, — писал бы я, если бы был летописцем, — ибо одни оплакивали своих коров, иные же, своими трудами собранные рубли; иные же, стеная, хватались за щеки и вопияли: где мои зубы?» — Но я не летописец, и интересуют меня не эти люди; интересует меня вицерой.
Я видел его несколько раз, приезжая в город, и говорил с ним раза два. Он поражал всех энергией своей работы; дни и ночи он напряженно писал и рылся в бумагах: он замучил всю канцелярию; он вес искал и придумывал: — кого бы искоренить, прищемить, кому бы нанести удар. Черный, угрюмый, маленький и безобразный, он не знал устали, и чем более осложнений вызывала его работа, тем более росло его рвение.
— А, и прокурор? Протест от прокурора? Хорошо:
И на прокурора летело донесение. — Что, архиерей тоже? Тем лучше, тем лучше!
И писалось на архиерея, и придумывался маневр на счет земли, отведенной под Преображенскую церковь, или еще что-нибудь такое.
Конечно, он не дошел до того, чтобы казнить своей властью, не дошел и до того состояния, в котором Гижигинский исправник объявил себя Богом и велел покланяться себе. Но, по общему мнению, дело близилось к тому. Стрельба но непокорным уже была. Могло состояться и объявление себя Божеством.
Трагизм положения состоял в том, что от «стран у Берингова пролива» до обиталища нормальных властей — весьма далеко. Нет телеграфа, а почтмейстер не надежен. Все данные для нескончаемого владычества нашего героя. Неизвестно, сколько оно продолжалось бы, если бы не один случай.
Вы понимаете, что там, вдали, где даже солнце одуревает от тоски и забывает летом заходить за горизонт, а зимой вставать от долгого и тяжкого сна, — людям бывает иногда ужасно скучно. Скучала поэтому и балерина. Вспомнились ей цветы, и оркестр, и место «у воды», и легкие танцы в костюмах эльф, и она сказала мужу:
— Петя, устроим бал.
— Помилуй, душа моя! Какой тут бал. Вот мне говорят, что акцизный надзиратель тоже... того...
— Пе-етя! мой друг! Устроим бал! Не уйдет твой надзиратель...
И бал устроился. Конечно, он мало напоминал столичные балы; но, все-таки... Казаки возами возили молодую лиственницу и устроили рощу и зеленый свод у входа; было много стеариновых свечек и ананасные консервы из Сингапура: была пудовая стерлядь, двухпудовая нельма, оленьи языки, и бесконечное количество бутылок. Насчет кавалеров было плохо.
Вместо оркестра заводная шкатулка. Но, все-таки, танцевали, и балерина плясала и много, и хорошо, и с кавалерами — польку трамблян (другой там не умели), и качучу — одна.
Конечно, я там не был. Мне все рассказал квартальный, — рассказал в почтительных выражениях и с лицом, полным недоумения.
— Я, — говорил он мне, — для порядка там стоял, для охранения, значит, так как его превосходительство (так звали подчиненные вице-губернатора, хотя он и был всего коллежским советником) за свою личность опасались шибко. Стою я при дверях и смотрю в залу. Ну там, кто умеет, танцы пляшут, больше генеральша. Нечего говорит — легко пляшет... А его превосходительство беспокойны были очень, всех угощают, со всеми разговор, а только, вижу я, все что-то полицеймейстера отзывают, шепчутся. Подходить тут ко мне полицеймейстер и говорить:
— Спосылай в управление, пусть двое городовых еще придут, да поставь их у черного крыльца, у кухни.
Ну пришли эти городовые. Пошел я их размещать, да и другие посты повидать — под окнами, на задах, — с пол часа и провел. Прихожу, а уж они за ужином сидят, а Петр Николаевич в роде как речь держать. Начало-то я не слышал, а тут, как я приспел, говорят они, сколько уроков имели, какая значить опасность была от вашего брата, заразили, мол, всех... Ну, потом стали похваляться, как они все это своеволие сократили, и, можно сказать, вполне победу праздновали бы теперь, только в том беда, что отовсюду сопротивление и от всех препятствия. И замечаю я, будто они становятся как бы не в себе, речь путанная, и дергает их, и на месте не стоят, а даже прискакивают от волнения и очень руками машут. А напротив то — советник третьего отделения Климовский; вдруг он к ним: И вас я насквозь вижу, и вы такой, доберусь я и до вас, погоди же, говорит. Хоть вскочил, — помилуйте, говорить, как. я у вас в гостях!.. Петр Николаевич пуще волнуются и уже прямо кричать: — вес знаю, не проведете меня, насквозь вас всех вижу! Вы, говорить, господин директор, чему учеников своих учите? Мне не кланяться? А вы где вчера были? Сговаривались? Против власти идти! Вы думаете — проведете меня? А тут как обернутся ко мне, да как крикнут.
— Обтяжнов! Арестовать его, в тюрьму! Да на акцизного надзирателя пальцем кажут, а сами тут же и валятся на нол. Повалились, а все еще бормочут: в тюрьму, в тюрьму! Ну обступили их тут господа, и я тут.
— Бери под ноги!
Ну, кто под ноги, кто под руки, и понесли в кабинет, а у них пена, глаза под лоб, выгибаются все!..
Оказалось, что вице-губернатор просто сумасшедший, — просто одержим манией, осложненной какими-то нервными припадками. На балу это стало всем ясно, обнаружилось с несомненностью и повело к надлежащим последствиям, т.-е., к горячечной рубашке, к околоченной войлоком камере, к брому и другим снадобьям. И все мы вздохнули свободно.
Но ведь целый год были мы в его власти, целый год никому невдомек было, что перед нами безумец, и что у безумца в руках неограниченная власть, которую он заставляет служить кровавым фантазиям, своему безумному бреду.
Когда настало лето, его отвезли на пароход, сплавили в сумасшедший дом, куда-то в Россию, кажется, в Казань. Его везли на извозчике, а за пролеткой бежал, ковыляя, наш бывший надзиратель, старый казак, и грозил кулаком и кричал!
— У, кровопийца! Ты зачем меня разорил, аспид ты! Ты зачем без хлеба меня оставил, со мнуками?..
Его убрали. Обоих убрали таким образом...
А я остался цел и невредим и, в ряду других, выдержал и этого безумца. И потому, разве неправ я, говоря, что чувствую к ним родственную нежность: могли меня уничтожить, — и пощадили! Добрые мои!
Но уважать? Какие же могут для этого быть основания?
ГОСПОДА ДВОРЯНЕ
Теперь, когда гг. дворяне играют, несомненно, первую скрипку в государственном концерте, я с изумлением спрашиваю себя: что же дает им на это право?
Быть может, они и хорошие люди, но, ведь, несомненно, они плохие музыканты. Откуда же такой почет?
Деревенский сапожник Сенька, скандалист, пьяница и драчун, который в дни моего детства являлся по воскресеньям со своею скрипицею к нам в усадьбу и пилил неистово «подушечку», «казачка» и другие танцы, сидя на крылечке людской, — с таким же правом мог бы играть в оркестре Большого театра, с каким гг. дворяне «делают политику» великого государства.
А между тем, Сенька умер пьяный в канаве, возвращаясь с какого-то кирмаша, где его слишком много просили играть и слишком много за то угощали. Гг. же дворяне повелевают судьбами «народов», и к голосу их все так же, если не более, чем прежде, прислушиваются наверху.
Отыскивая объяснение этому историческому парадоксу, я пытаюсь найти и обнаружить те нравственные силы или те великие идеи, которыми обладает гербовая часть человеческого рода. Из учебников истории я вынес заключение, что для властвования над миром от народов, классов и отдельных людей требуется нравственный подъем, требуется прикосновенность к великим творческим идеям.
Торжество христианства над античным миром, завоевание Рима германцами, власть Бернарда и Петра Амиенского, возвращение античной культуры, победы пуритан над войсками Карла XII, революционный переворот, совершенный третьим сословием, головокружительный успех Японии, наконец, — все это нам понятно, потому что мы чувствуем за всеми этими победами дыханье страсти и веяние великих мыслей и безграничных надежд.
Но — дворяне?! Двадцать пять лет тянется уже вполне дворянская полоса русской жизни, и теперь, когда вся страна, до глубины взволнованная, бродит под напором творческих сил и великих исторических страстей, — гегемония дворянства еще неоспоримее, чем когда-либо...
Не может быть, чтобы такое прочное господство не опиралось на право.
В поисках за ним, окидываю мысленно знакомую мне среду, — я ведь также отпрыск дворянского корня, — и ищу, ищу...
Самые ранние мои воспоминания относятся к первым годам «воли». Я думаю, это было в 63-м году, когда окончились временно-обязанные годы и начали вводиться уставные грамоты. Отец был предводителем дворянства, и в доме у нас собрался дворянский съезд. Я не помню, конечно, о чем там говорили; но за то прекрасно помню, как невыразимо много ели.
Длинные столы, составленные «покоем», заставленные посудой, и за ними — люди в коках, в высоких черных шейных платках. Они сидели за этими столами, кажется, круглые сутки. Они были там, когда я, встав и умывшись, ускользал от няньки, чтобы посмотреть в щелку; они сидели, когда я возвращался с прогулки; часами сидели они, и жевали, и кивали своими коками, и сочно хохотали. А когда приходила пора ложиться спать, они сидели опять, и долго мешал мне спать грохот и стук посуды и хлопанье дверей в коридоре, по которому торопливо носили взад и вперед подносы, блюда, вазы...
Однажды я пробрался в «закусочную». Около одного углового стола с закуской стояли с красными, страшными лицами братья Борзые. Один — громадный, с формами атлета, с бычачьей шеей и крохотной головой; другой — маленький и круглый, как шар. Я сел на диван и с ужасом смотрел на работу их челюстей: они ходили кругом стола с тарелочками в руках, большие, с неворочаюшимися шеями и налитыми кровью глазами, и пожирали...
Вдруг отворилась дверь, и быстрыми неслышными шагами прошла через комнату моя мать, — белым вороном казалась она мне всегда в этой дворянской стае, — тихая, человечная...
Борзые ее заметили, и тотчас же большой Борзой наклонился к маленькому, и из его жующей, полной ветчиной пасти послышалось конфиденциальное рычание:
— Брат, а брать! Какая превосходная ветчина...
Маленький посмотрел на большого зверски, и, весь побагровев, прорычал ему в октаву:
— И какая великолепная хозяйка!
Это называлось — быть любезными!
Я в ужасе убежал.
Я убежал, но у меня на всю жизнь остались в памяти эти атлетические фигуры дворян-обжор, со свирепыми октавами, с кухонными любезностями, и положили, быть может, несколько карикатурный отсвет на мое отношение ко всему российскому дворянскому сословию.
Но карикатура — карикатурой, а правда — правдой. И правда эта в том, что дворянством проедались и. пропивались колоссальные суммы. Выкупные платежи, миллиарды, вырученные займами, залогами и продажей земли, громадные суммы, полученные из государственных казначейств в качестве жалования за «службу» — все шло на поддержание «приличного образа жизни», т. е. на жизнь не по средствам.
У разных дворян это совершалось по разному. Одни, — тихие моты, — не позволяли себе ничего «лишнего». Они только не могли жить иначе, как «прилично», и проживались исподволь, но неуклонно. Другие, — более пылкие натуры, — колебались между сквалыжничеством и скупостью в будни и полным парадом в праздник. Такими праздниками, раr ехсеllеnсе, являлись поездки в город, а тем паче в Москву, или Варшаву. Тут в месяц глупейшим образом протирались глаза годовым доходам, и половые из трактиров, буфетчики из клубов, извозчики и дамы от Максима сохраняли трогательнейшее воспоминание о «настоящих господах».
«Эпоха великих реформ» и первые годы начавшейся затем реакции были временем дворянской фронды». Я уже подрос к концу этого периода, и помню то оппозиционное настроение, которое царило в дворянских гостиных.
Коки и шейные платки постепенно выходили из моды; бывшие «владельцы душ» постепенно вымирали; но разговоры о «черт знает каком» правительстве, о «непозволительном либерализме» и о «каналье мужике» составляли любимую тему застольных бесед.
Отзвуком этого настроения явилось то, не лишенное веселья злорадство, которым были встречены известия о наших неудачах во время последней турецкой войны. Хохотали над Крюднором, Померанцевым и другими кукурузными генералами, бегавшими из-под Плевны; издевались над храбрым Гурко и его кавалерийским наездом в «долину роз», плодом которого была поспешная «ретирада» отца лидвалевского компаньона и тысячи вырезанных турками болгарских семейств. Но всего больше веселились по поводу «политики на Балканах».
— Конституции для болгар захотели... бра-тушки! Славяне! А с поляками что сделали? Муравьева посадили? Разорили целую страну? Конституционалисты!
Поэтому, когда начались террористические покушения, в дворянских гостиных не замечалось особенного возмущения. Напротив — были заинтригованы.
— Любопытно... Ишь, мерзавцы, что выдумали...
Так любители цирковых развлечений смотрят на головокружительные пируэты воздушного гимнаста, а с галерки кричат с одобрением: — Вот так подлец! — когда акробат переходит пределы возможного.
Но понемногу оппозиция прекратилась. Здесь действовало много причин. Во-первых, денег становилось все меньше. Хозяйство шло из рук вон плохо, и прежде всего потому, что фрондировавший обжорливый барин не умел и не хотел работать. Он умел лежать на диване, умел болтать в гостиной, умел, — и это знание он приобретал с юности в «девичьих» — распутничать; но хозяйничать он не умел. В нашей губернии, по крайней мере, хорошие хозяйства принадлежали или немцам, или полякам, в которых, после усмирения «мятежа» и под давлением правительственных репрессалий, развился культ земли.
— Нас душат, нас сгоняют с земли. Не отдадим ни пяди!
И они работали, глодали в парадных столовых, сохранившихся от прежних лет, иногда одну сухую корку хлеба, но землю удержали и создали образцовое хозяйство.
Но русское дворянство, — оно катилось в пропасть с головокружительной быстротой.
Часть так и не стала на ноги, утратила «положение в свете», ударившись в аферы, в плутни — или спивалась в разоренных гнездах, «занимаясь» охотой, лошадьми и «девками».
Помню, я раз попал в такую компанию. Дом большой, с колоннами. Разрушенные «службы» вокруг него. В зале, «в два света», с обвалившейся штукатуркой потолка и загаженными стенами, в зале, в которой раньше гремели крепостные оркестры и до утра плясали нарядные пары, — сидело на полу, на продранном ковре, штук пять «дворян» с обрюзгшими сизыми лицами, вокруг четвертной бутыли. Одетые в чемарки, черкески и другие экзотические костюмы, они пили, закусывая огурцами и черным хлебом, и отличались от хитровцев только особым «благородством» пьяных лиц. Потом они устроили охоту: выпустили на двор пару свиней, уселись на лошадей и с ружьями в руках гоняли свиней по двору, травили их дворняжками и стреляли в свиней и в собак...
Я думаю, «дворяне» такого сорта с особым увлечением подавали голоса за исключение депутатов Думы, опозоривших их честь.
Другая часть дворян удержалась от падения, ухватившись за веревку, брошенную правительством. Дворянский банк, соло-кредит, служба по крестьянскому и общему управлениям — спасли остатки состояний и слили дворянство и бюрократию в одно целое. Тогда оппозиционный дух сменился в дворянстве обнаженнейшим сервилизмом. То показное достоинство, которое отличает метрдотелей, иногда швейцаров и всегда «кровных» дворян, то достоинство, которое брызжет из людей на дворянских собраниях, пряталось и исчезало без следа при встречах с сильными мира сего.
Спины гнулись, дворянские уста молчали, когда наш губернатор, страдавший горделивым помешательством и говоривший:
— Мой Государь! Моя губерния! — кричал и стучал ногами на дворянина - земского начальника, на дворянина - предводителя дворянства.
Этот лакейский дух людей, кормящихся от власти, дошел в нашей губернии до чисто сказочных размеров. Однажды, после открытия отделения Дворянского банка, все предводители дворянства, с губернским во главе, отправились к губернатору просить его передать Государю благодарность сословия за милость.
Губернатор заставил ждать выхода два часа; затем вышел, выслушал стоя и сказал:
— Благодарю. Рад. Передам моему Государю о ваших чувствах. Присядьте на одну минуту. Прошу! — и указал на стулья, стоявшие рядами у стены.
Губернский предводитель изогнулся ужом и с ехиднейшей любезностью ответил:
— Даже минуты драгоценного времени вашего превосходительства не решаемся мы отнять у вас. Имеем честь...
И низко и церемонно поклонившись, дворяне ушли, не присев.
Вся губерния была потрясена, изумлена, восхищена достоинством, остроумием и смелостью своего предводителя.
— Каков!? «Даже ни одной минуты?!» Не позволить он себе на ногу наступить!..
Это изумление, этот восторг пришибленных людей перед чужой, но «дворянской» «смелостью», сильнее, чем что-либо, свидетельствовали для меня о духовном маразме купленных людей.
Зато, если путем «случая» такой пришибленный дворянин достигал «степеней известных», каким павлином распускал он свой дворянский хвост, с каким азартом вымещал на всех, — и прежде всего на мужике и на «либералах», — свое былое падение и долгое унижение.
Вот где корень той злобной беззастенчивости, что называется «сильной властью».
Давая характеристику дворянской массы, я совершенно не касаюсь ее умственной жизни. И это потому, что этой жизни не было и нет. В помещичьих усадьбах, как правило, не бывает ни книг, ни других признаков умственной жизни. Газета — иногда «Свѣтъ», иногда «Новое Время». Изредка журнал. Чаще роман. Очень редко несколько сочинений по сельскому хозяйству... Вот и все, что свидетельствует об умственном труде, о работе мысли. И это понятно, потому что основные дворянские идеи, — что мужик — вор и скотина, а наука - вредная роскошь, — ни в книгах, ни в умственном труде не нуждаются.
Конечно, — свет не без добрых людей, и среди дворян есть люди другого типа. Но, становясь человеком и гражданином, приобретая высшие интересы и благородные склонности, дворянин теряет «свое» обличие, перестает чувствовать себя «белой костью», государственным нахлебником, опорою отечества. Он теряет дворянское обличие и становится членом великой человеческой семьи. Но таких мало.
Итак, в чем же заключаются дворянские права на роль первой скрипки?
В великой страсти к благам мира. В гибкой спине. В глубоком убеждении, что все погибнет, если исчезнет сословие государственных нахлебников.
И с этим духовным багажом они шумят на всю Россию, мостят плотину против всесокрушающего духа времени и, наверное, обдумывают теперь план, как бы исключить из дворянского звания все костромское дворянство.
Жаль ужасно, что умер скрипач — сапожник Сенька. Быть может я пристроил бы его, благодаря моим литературным связям, в оркестр Большого театра. Видимо, теперь такое время, когда и это можно, когда все можно.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
Мой друг и родственник попал в ту беду, от которой теперь никто не гарантирован. На него взглянуло недреманное око, блюдущее порядок и безопасность губернии, и — сглазило.
Жил он себе тихо и благородно; немножко философствовал, немножко осуждал, мог иногда, сказать прочувствованное слово, — и за это пользовался уважением. Имел большую семью и большую практику, так как был он хорошим доктором; водились деньги, и деньги эти раздавал направо и налево, потому что не был скуп и, пожалуй, имел отзывчивую душу.
Всего этого оказалось достаточным для того, чтобы мой друг очутился на границе, где вежливый жандармский офицер вручил ему заграничный паспорт и пожелал счастливого дальнейшего пути.
Довольно обычно, но тем не менее — нелепо.
По долгу родства и дружбы, я не могу помириться с несчастьем моего друга, и лечу в Петербург. Иду в знакомую канцелярию просить и хлопотать.
Приятно побродить по давно знакомым, почти родным местам... Все те же великолепные фигуры у дверей с медалями, бакенбардами, видом министров. Все тот же благообразный чиновник в приемной, с «Анной на шее» и бирюзовым перстнем на мизинце. Все те же, истомленный скукой ожиданья и тоской по близким лица просителей, тщетно ждущих, когда откроются двери и явится «лицо».
В былое время, по неопытности, я тоже долго и безнадежно сиживал на продавленном диване. Теперь я опытнее и поступаю так: даю три рубля швейцару с министерской рожей и через пять минуть беседую с «Анной на шее» в коридоре. Это удовольствие стоит еще синенькую, но зато я попадаю в темный внутренний коридорчик, где излагаю дело, вручаю прошение и еще маленький конвертик.
Качусь далее, как по маслу, и попадаю перед светлые очи «лица», уже немножко подготовленного.
Светлые очи» — это, конечно, фигуральное выражение. На самом деле, очи у «лиц» всегда, как оловянные пуговицы. Этим «они» выражают перед «чернью», что земные увлечения им несвойственны, что они «выше мира и страстей». Такие глаза, как и бачки котлетами, как и глупые речи об основах и самобытности, составляют необходимую принадлежность делающего большую карьеру лица.
— Я не смел бы беспокоить ваше превосходительство, — говорю я, — но Антонина Николаевна прямо-таки приказала ехать мне к вам...
В оловянных пуговках на минуту вспыхивает игривый огонек, но лицо остается столь же непроницаемым.
— В чем дело?
Я излагаю и получаю в ответ:
— Сделаю запрос в губернию. Но предупреждаю: дело серьезное...
Остается одно, ехать туда «улещать». Сажусь в вагон и еду.
— Вы напрасно идете к генералу, не заручившись рекомендацией, — говорят мне мои друзья. — Тем более, что он совсем сумасшедший.
Но мне прежде всего нужно узнать в чем дело. И потому «заручку» я оставляю на после. Надеваю фрак, значок, шапокляк и отправляюсь.
Однако, это не так просто — попасть к нему. Его превосходительство «очень заняты», и я долго жду в передней, где меня глазами обыскивают два унтера. Что ж! верно их такая обязанность.
Потом меня ведут вниз и вверх, и опять какими-то закоулками, и оставляют еще на полчаса в какой-то «людской», набитой «странного вида» людьми и унтерами.
Наконец, просят в кабинет, где я вижу старого генерала в кресле, прижатом к простенку между окнами. Перед ним письменный стол и опять два унтера — по бокам.
Генерал суров и проницателен. Он ест меня глазами и буравчиком вонзается под жилет и в череп.
— Чем могу служить? — говорит он хриплым басом.
Я излагаю дело.
— Назад? Сюда? Низ-за-что!
— Но помилуйте, — возражаю я. — Ведь у него семья, практика... Ведь вы разорили жизнь целой семьи. За что? Как я узнал, против него не выставлено никакого обвинения. Никаких преступных действий. Ни к какой партии он не принадлежит. Общее уважение...
Мой собеседник багровеет.
— Вот, вот! Вот это, именно. Общее уважение, влияние... Вы говорите: никаких преступных действий? А влияние? Это, милостивый государь мой, хуже действий! Кто их всех науськивал? Кто подучал? Сам в тени. Сам ни в чем невиноват. Всеми уважаем... Ха-ха-ха! И не виноват!
— Но, позвольте. Надо же иметь доказательства того, что это он всех науськивал...
Генерал склоняет голову на бок и продевает руку в петлю аксельбантов. Он сардонически, тихонечко хохочет, полузакрыв глаза.
— Доказательства?! Они — здесь! И рука, опутанная, аксельбантами, стучит в генеральскую грудь.
Я улыбаюсь, и моя улыбка вызывает неожиданную бурю.
— Милостивый государь! — гремит генерал. — Вы изволите шутить? Вам весело? Да-с? Они лишили меня сна. Лишили уверенности, что жизнь моя безопасна! А вы изволите веселиться? Не желаю. Помилуйте! что они наделали? Всех восстановили, всех возмутили... Бунт! Бунт против правительства, против высших сословий, против нравственности...
Широко раскрытые глаза ходят колесом, и наклоняясь ко мне, он медленно, с громадной силой убедительности говорить мне.
— Вы знаете, он, ваш родственник, ни разу не вздумал мне поклониться! Меня нет! Я — ничто, я — нуль! Еще бы! Стоит ли кланяться?
— Но, быть может, он не был знакомь с вами?
— Пустое! не незнакомство, а идеи. Они отравили все. Они прямо сделали жизнь невозможной. Поймите — невозможной! Не верите? Спросите жену. Пусть она вам скажет, сколько горничных должны мы были прогнать... А? Все дерзят, все грозят адвокатами. Да! адвокатами, за «дуру», за щелчок по носу — адвокатами! И такие адвокаты есть, которые нарочно возбуждают прислугу против господь. Нет, так жить нельзя.
Разговор принимал такой оборот, какого я не ожидал, и я не знал, что мне сказать. Но собеседник, вероятно, истолковал мое молчание в пользу убедительности своей речи, и конфиденциально продолжал.
— Из Уфы я уже должен был уехать из-за этих адвокатов. Представьте: моя жена у мирового, кухарка про нее плетет Бог знает что, адвокат распинается и отдает нас на поругание... Благодарю покорно! Что ж, вы хотите, чтобы и здесь пошло то самое? Нет-с, не позволю!
— Ваше превосходительство, — начал я, поверьте мне, я очень сочувствую вашей супруге, — но не может же быть, чтобы мой друг, уважаемый врач, подучал вашу кухарку идти с жалобой к мировому...
— Он. Он. Извините, он. Если не прямо, так косвенно. Этот дух, кто его создал? «Прогрессивная» интеллигенция, — вот кто! Да. Это она, она все. Она создала и социал-демократию и революционеров, и все... Это она посеяла идеи о равенстве, о социализме. В ней все эти партии. Да. Террориста или демократа я не боюсь. Мне его вот он поймает, — генерал кивнул на столпообразного жандарма, — и —того!
При этом он сделал какое-то неопределенное движение рукой; смысл которого был, впрочем, ясен.
— Но таких господ, которые ничего не делают и только пользуются уважением — я боюсь... Помилуйте, почем я знаю? Она служит у стола, она стелет постель, — если у нее заведется в мыслях... Нет, от прислуги не обережешься!.. А и без прислуги нельзя...
Сказав это, генерал растерянно и недоумевающе посмотрел на меня.
— «Это, действительно, совсем сумасброд», — подумал я и встал.
— Так вы никак не согласитесь на возвращение?
— Низ-за-что. Я не ручаюсь за спокойствие губернии. Низ-за-что!
Я был уже у дверей, когда генерал послал мне последний аргумент.
— Слава Богу, я теперь хоть сплю спокойно.
Приехав домой, я окинул мысленным оком поле предстоящей битвы, и для меня стало очевидным, что здесь, на месте, надо действовать не на генерала, а на генеральшу. Но через кого? Это мне объяснили местные люди.
— Поезжайте к Ивану Ивановичу. Он славный малый. Кутните с ним. Он настроить Джоржетку — певичка здесь есть такая. А всего бы лучше, если бы он свез вас к ней. Ну, дальше, это от вас будет зависеть, чтобы понравиться и упросить ее взяться за дело.
А у Джоржеты приятель — адъютант, который вертит генеральшей. Все дело, следовательно, в том, чтобы Джоржета взялась.
Я был смущен. В мои годы! Но выручил меня один знакомый, лихой кутила и добрый человек — помещик. Он взял певичку на себя.
А я поехал в Петербург. Там у меня есть одно знакомство... хвастаться, им нельзя, но из песни слова не выкинешь.
Лет 15 тому назад выгнали из одной гимназии одного действительно скверного юношу, Пиотровского, смазливого, пронырливого и порочного. Без гроша денег приехал он в Петербург и с письмом своей матери явился к моей тетке, с просьбой помочь ему пристроиться.
У старушки были связи, и она устроила его управляющим домом одной великосветской дамы, пожилой и некрасивой. С этого и пошло. Смазливый юноша «вышел в люди», приобрел знакомство в свете, и через несколько лет его квартира в бельэтаже того же дома, управляющим которого он когда-то был, стала местом, куда по вторникам, четвергам и субботам съезжалась вечерами знать. Здесь играли в рулетку и во что угодно хорошенькие женщины demi mond’a и такие тузы, доступ к которым для простых смертных более чем затруднителен.
— Все у меня в кулаке! — говорил иногда в добрую минуту Пиотровский своим друзьям.
Имея «всех» в кулаке, он сделался частным ходатаем и «проводил дела». Зарабатывал он много, потому что «дела» были серьезные, с одной стороны пахнувшие миллимами, с другой, при нормальном порядке, тюрьмой.
Но раз «все» в кулаке, то тюрьма, конечно, исключается, а миллионы остаются.
— Ма tаntе, каким образом ворочает он «ими»?
— Ах, это очень просто. Трудно было создать положение. Но раз оно есть, — остальное ничего не стоить. Проиграется там у него кто-нибудь, он денег предложить. Понравится какая-нибудь, —он и здесь поможет. Он им всем необходим, он их фактотум, —ловкий, скромный и усердный. Конечно, и они ему платят услугой за услугу...
— Итак, тетушка, вы должны меня свести с Пиотровским и приказать ему. Воn?
Когда я через несколько дней пришел к старушке, я уже застал «фактотума». Еще не старый, полный блондин, с томным видом и женскими руками в кольцах, лениво выслушал все, что ему рассказала моя тетка, и, обращаясь только к ней, процедил сквозь зубы:
— При всем моем уважении к вам, — я таких дел не беру.
Старуха закипела.
— Ты какие же дела берешь? только грязные? только мошеннические? Стыдился бы говорить! Он таких дел не берет!! Ты пойми: я тебя позвала для того, чтобы ты хоть одно хорошее дело сделал. Ради матери твоей позвала, чтобы ей не так стыдно за тебя было... Слушать ничего не хочу! — Хлопочи у твоих...
Ни одна жилка не дрогнула у Пиотровского. Он только повернулся ко мне и так же равнодушно, как и раньше, процедил:
— Хорошо. Пять тысяч.
— Пять тысяч? Разбойник! Дай ему сто рублей на извозчиков!
Пиотровский вдруг встал и расхохотался. Потом быстро подошел, поцеловал руку у тетушки и опять засмеялся.
— Это напоминает мне, как вы кричали на меня, когда я был мальчишкой. Извольте. В чем же дело? Вернуть и больше ничего?
— Ничего.
— Через неделю будьте на приеме.
Через неделю я был на приеме. Напрасно смотрел швейцар мне в руку. Там не было зелененькой бумажки.
И «Анна» напрасно выбегала в коридор. Я не пошел туда. Я при всех просителях подал свою карточку и сказал:
— Доложите, его превосходительство меня ждет.
Через 10 минуть я сидел в большом прекрасном кабинете, и его превосходительство, складывая громадные челюсти гиены в нечто, подобное улыбке, и играя живыми и умными теперь глазами, говорил мне:
— Душевно рад, что могу обрадовать вас приятными вестями. Мы получили лучшие отзывы и с мест, и по счастливому случаю, здесь, частным порядком. Ваш родственник возвращен. Это для вас рождественский подарок. Надеюсь, — он не заставить нас раскаиваться в сделанном ему снисхождении...
А прощаясь, его превосходительство пожал мне руку и сказал:
— Мой привет Витольду Антоновичу. Мне даже показалось, что он мне сделал какой-то франкмасонский знак.
Я вышел на улицу и пошел пешком с чувством молодости во всем теле. Так всегда бывает после удачи. Солнце светило и крохотные снежинки, носившиеся в воздухе, сверкали как алмазы.
— Хорошо!
Я иду тихонько и наслаждаюсь и уличным шумом и предпраздничной толкотней. У — Гостиного ряда толпы веселых фланеров и хлопотливых хозяек, закупающих припасы на Рождество и подарки детям. Среди улицы тихо движется фургон с одним маленьким решетчатым окошечком назади и городовым с голой шашкой на запятках.
Я смотрю на толпу, смотрю на фургон, и в голове несутся обрывки мыслей:
...«Если бы их свести с Пиотровским, вероятно, не разъезжали бы в этой конуре... А скверно, должно быть, сидеть праздниками за решеткой»...
Но волна печальных образов скоро проносится мимо, и в сознании громче, чем прежде, бьется мысль.
«А я — с рождественским подарком»!
Хорошая страна. Славная генеральша. Прелестная Джоржета. Милый Пиотровский. А его превосходительство?!
Счастливая родина!
БАБЫ
(Сельская идиллия)
Серая, пыльная дорога змеею вьется и осторожными изгибами пробирается среди овсяных и ржаных полей; иногда к ней надвигается стеною темный еловый лес, иногда плакучие березы перевешивают чрез нее свои тонкие, длинные ветви. Тихо и пустынно. Лишь изредка там и сям, из-за перелеска выглядывают соломенные деревнюшки, и смотрят на дорогу и на идущих по ней баб подслеповатыми глазами покосившихся, черных изб.
Впереди с тонкой длинной палкой в руке идет старая Кандубиха, старая, сморщенная, как гриб, обезьяна. Можно долго смотреть ей в лицо и пытливо искать выражения горя, радости или гнева в окаменевшей сети морщин, окружающих громадный рот и маленькие выцветшее глазки, — и не найти. Но стоить взглянуть на сморщенную высохшую шею, горбом согнувшуюся спину и голые узловатые ступни, которыми она шлепает по придорожной пыли, — чтобы стыдливо, с чувством виноватого беспокойства, отвести от нее глаза. Зачем смотреть на изуродованного человека?
Три молодые бабы гуськом идут за ней, — как пилигримы. У всех низко спущенные на глаза белые платки на головах, белые свиты и рубахи, и босые ноги...
Кандибуха ведет свою армию с раннего утра по надоевшей всем им дороге. Который раз приходится им мереть ее утомленными ногами?
— Годи! Поснедаем...— говорить она хриплым бабьим басом, и садится на край дороги, спустив ноги в придорожную канаву.
— А и притомилася же я, таички вы мои... Чи-ж буде ён дома гэтый раз?...
Но ей никто не отвечает. И кто может знать, будет ли «он» дома? Разве у него мало лошадей и разных господских «дел»?
Поэтому бабы жуют свой хлеб и молчать. Но думают. И общий итог этих мыслей выражает, наконец, самая юная из них словами:
— А кали-б яго палярус задавил!
По дороге, скрипя колесами, тащится воз и останавливается около баб.
— Добры-день! З-далека?
— Добры-день вам... А як же не з-далека? С под самой Ворши...
— Куды Бог нясе?
— А до пана, до земьскаго, — по гроши, по солдатьски гроши... Чи ня ведаете вы, ли дома ён, тый земьский? Шостый раз ходим: перед Паской были, и на Паску были, и на Родительску, и на Миколу — усе нима дома... И где яго лихо носе!? А у волости кажуть: покуль от яго бумага ня прийде, чи сам ня буде — гроши не дадим... А хлеба нима, а жить-жа треба; Божжа — ты мой!..
И такой беспомощностью веет от этих убогих жалоб, что тот, кто лежит на возу, долго молчит и смотрит куда-то вдаль, прежде чем решается ответить:
— Казали, — нима его у дворе.
— Што ж нам тяперича делать! Аа-бо!..
Но Кандубиха кряхтя встает, и решительно заявляет:
— Пойдем! Сёмый раз ходить ня буду.
* * *
Анна Ивановна сидит на балконе и смотрит усталыми глазами старого человека на далекий, и на широкие поля, подернутые легкой вечерней мглой. На небе гаснуть янтарные и розовые тени на перламутровых облаках. Земля дышит спелой рожью, запахом цветов, теплом и прохладой вместе. И отдыхает.
Отдыхает и Анна Ивановна от трудов целого дня. Целый день жарилась она у жаровен, наварила целый пуд варенья, навоевалась вдосталь с Палашкой. И теперь, отдыхая, она переживает вновь перипетии оконченной битвы, и делится ощущением с дочкой, Соней.
— Такая дрянная девчонка!.. Я ей говорю: тряси кругами, чтобы пену собрать к средине, а она... Такая капцанка такая капцанка...
— Знов тыи бабы пришли к пану, — докладывает капцанка, вынырнувшая из-за кустов жасмина.
— Какие бабы?
— А запасные. Кажут, — за грошами. З-под самой Ворши.
— Ах, Боже мой! Какие надоедные! Соня, скажи им, — пойди, Сонюшка, — что папа сам продеть к ним... Пусть уходят. Ты это умеешь...
И в голосе Анны Ивановны слышится досада неприятно потревоженного человека, и некоторый испуг, испуг перед назойливо вторгающейся грубой жизнью.
Но Кандубиха не даром сорок лет служила по фольваркам. Она знает, как и где «отдыхают» господа, и где их нужно ловить.
И не успела расторопная Соня принять свои меры, — а она стоить уже среди благоуханного цветника, как воплощение безобразной, унизительной и вместе грозной нищеты... Стоит со своими спутницами, и голосом глухим и скрипучим спрашивает:
— Мы до пана... Чи знайдется ён коли-небудь, чи нам у губернию итти жалиться?
— Папы нет дома, — бойко отвечает Соня. — Притом он велел вам не ходить сюда и не беспокоить его. Сидите дома и ждите; он сам продеть, проверить списки, и деньги выдадут вам в волости.
Соня очень рада, что умеет говорить деловым языком, и знает «порядки». Отец за это постоянно ее хвалит.
— Был бы губернатором, — назначил бы тебя земским начальником, — говорить он.
— А Боже-ж мой! А як же нам ждать, паненочка, коли у дворе а ни синь пороха... Шостый раз ходим... — со слезами в голосе причитает одна из женщин.
— Вот и напрасно ходите, — бойко парирует Соня. — Ведь вам велели ждать?.. Какие бестолковые!
— Вялели! Вялели!.. А чи вам вялели людей дарма мордувать? Где ж гэто видано! Люди добрые, побочайте-ж вы на гэто! Побочайте-ж на сиротски слёзы! Ходим-просим, ходим-просим, свои гроши шукаем! А ён ни сам ня едить, ни у дворе яго не знайти. Не дает нам наших грошей законных... Чи ж у вас совести нима? Чи на вас закону нима? Чи нам с сиротами помирать треба? Чи — ж есть у вас Бог на небе?..
Голос старой Кундубихи растет, и ее грозные причитания несутся и разливаются в вечернем воздухе, наполняя собой тишину, — и согнутое тело ее выпрямляется, и стоить она большая и страшная, махая сухими длинными руками, точно накликая несчастье на этих сытых людей, у которых «нет Бога на небе»...
— Как ты смеешь шуметь здесь! — кричит Соня. — Я за урядником пошлю!
— Соня, Сонечка! Успокойся, дружок мой — умоляюще говорить Анна Ивановна.
— Мама, не беспокойтесь! Сейчас ступайте вон отсюда! Слышали! — И молодой голос молоденькой девочки звучит задорной угрозой.
Но старуха, должно быть, даже не слышит ее. Что ей эта маленькая, крикливая девочка, ей, говорящей теперь с тем собирательным целым, которое превратило всю ее жизнь в цепь черных дней, полных каторжного и унизительного труда «паньской наймитки»? К нему обращаются ее, всегда подслеповатые, теперь горящие застарелой ненавистью глаза, к нему протягивает она свои корявые руки, и кричит, надрываясь:
— Хай же й вам тое буде, штой мы от вас бачили! Хай же й на ваши слезы посмеются люди! Хай...
* * *
Давно уже ушли эти бабы, а Анна Ивановна все не может отделаться от жуткого волнения.
— Не люблю я, Сонечка, теперешнего времени... Все недовольные, все наглые, все чего то от нас требуют... Совсем не так было прежде.
И начинает в сотый раз рассказывать, про хорошее старое время, когда она была молоденькой девушкой, и все было так спокойно, и так удобно, а губернатором был Дунин-Борковский, и они выезжали, и Андрей Петрович был самым веселым и милым кавалером и т. д. и т. д.
* * *
Не даром Анна Ивановна не любит настоящего. Оно грозно, печально и полно опасностей. Ночь давно спустилась на землю, — и с ней тишина и покой. Но ухо старой женщины ловить в этой тишине тревожные звуки, и мысль говорит ей, что призрачен этот покой.
Там, где то, во мраке, может быть в их собственной людской, спят теперь эти женщины после далекой дороги, с обидой в сердце, с мыслями, пропитанными ненавистью... А перед сном они долго говорили, и жаловались, и кляли; а «люди» слушали их, и сочувственно кивали головами, вместе с ними негодовали, и издевались, и проклинали.
Конечно, Андрей Петрович неправ. Она давно говорила ему, чтобы он съездил наконец и рассмотрел, и утвердил эти списки. Но он всегда был ленив, а теперь и болен. И далеко: сорок верст! И без того совсем нет покоя. И Анне Ивановне становится жалко мужа, и совсем не жалко этих баб, которые привыкли ходить и стали так бесцеремонны.
— Пусть же и над вашими слезами посмеются так же люди! — вспоминает она.
Но разве они смеются? Разве для того, чтобы смеяться, Андрей Петрович...
— Ах, разве можно спокойно спать, когда кругом злоба и недовольство? Совсем, совсем не так было когда-то...
* * *
— Я и не знал, что ты так подла.
Это говорить Сережа, длинный, нескладный гимназист, своей сестре Соне. Он сидит на подоконнике, спустил ноги в сад, и курит папиросу за папиросой.
— Как ты смеешь употреблять такие слова?!»
— А это разве не подлость — кричать так на старуху? Все порядок наводишь? Городовой в юбке!
— Пожалуйста, уходи отсюда! Ты скверный мальчишка. Что ж, мне позволить им разливаться и браниться при маме?
— Да ведь они правы. Правы, пойми ты. И виноваты мы; виноват отец.
— Пожалуйста не суди отца!
— А тебя буду, и имею право, и ухожу, чтоб не быть с тобою.
— Сережа!
Но он уже слез и уходит, и кричит ей:
— Стыдно с вами!
— Сережа!
Соня высовывается в окно, но брата нет. Из сада несется густой и нежный запах никотиан; звезды восторженно горят на черном, прекрасном небе; но девочка не слышит запахов и не видит звезд. Она лежит на окне и горько плачет, закусив платок зубами, быть может, от обиды, или от злости, а, быть может, и от стыда.
* * *
Зачем и для чего вылечили врачи мукденского госпиталя Ивана Хомца, — это известно одному Богу. Конечно, ему лучше было умереть, чем жить с отрезанными руками и ногами. Но ему отрезали ноги почти у самого туловища, отрезали одну руку у плеча, другую у локтя, залечили и эвакуировали в Россию. Для этого обрубленное тело положили, подостлав соломы, в большую корзину, закрыли старым полотнищем от палатки и поставили в вагон.
Сорок дней ехала корзина до Омска; сорок дней обрубок человека трясся и толкался головой и отрезанными концами тела о ее бока, ел, когда давали товарищи, пил, когда ему приносили воду, и портил подстилку до тех пор, пока не заражал того угла, где стояла его корзина. Его жалели, об нем заботились товарищи-калеки, фельдшер промывал водкой с водой образовавшаяся пролежни, — тем не менее до Омска доехал не обрубленный человек, а гниющий кусок мяса.
В Омске госпиталь опять поправил немного Хомца, и он поехал снова в своей корзине, — теперь уже на родину. И опять на нем не было живого места, и опять к его плетенке нельзя было подойти без тошноты, когда вагон остановился у платформы, на которой Хомец слез бы, если бы у него были ноги. Но ног не было; товарищи, обрадованные близостью дома, снесли корзину на перрон и забыли; и вонючая корзина, закрытая дырявым рядном, целый день стояла в углу железнодорожного навеса. Вечером к ней подошел сторож и заглянул в нее, светя кровавым глазом своего фонаря; зажав нос, он долго стоял и смотрел на безобразную и бесчувственную массу, валявшуюся в ней, на запухшее, посиневшее подобие лица, и на солдатский погон, болтавшийся на плече желто-песочной рубахи. Потом, крестясь и бормоча, сторож заковылял к помощнику, потом к жандарму, — и у корзины скоро собралась молчаливая и растерянная толпа. Стоял громадный, скотоподобный жандарм, и по его веснушчатому лицу и великолепным усам одна за другой бежали крупные капли слез. Стоял крикливый и злой помощник начальника станции, и все его худое и зеленое лицо нервно дергалось и прыгало, как от нестерпимой внутренней боли. Стрелочник Лука снял шапку и торопливо крестился. Из корзины в это время несся глухой, прерывистый и тихий вой, и тяжелая темная масса шевелилась в ней и вздрагивала.
— Что же делать?
Один задал вопрос, и ни один неумел ответить. Долго и в пустую толковали они, и кончили тем, что взвалили корзину на извозчика и повезли в лазарет. Была ночь. При человеческом обрубке не было бумаг; и фельдшер долго отказывался принять корзину и разбудить доктора. А то, что лежало, опять почти бездыханное, на вонючей соломе, — все-таки было живо, и голодное, непоенное, истомившееся в пути, сожженное солнцем за день стоянья на железнодорожной платформе, кровоточащее всеми ужасными отрезами, — все еще не хотело умирать. И опять дождалось того, что корзину поставили теперь на крестьянскую телегу, и повезли в волость, с предписанием волостному старшине, — доставить то, что осталось от Ивана Хомца, в его родную Осиновку, к законной жене его и детям.
* * *
Был жаркий августовский день, и Аугинья Хомцова, одна из спутниц старой Кандубихи, целый день жала овес, и теперь, под вечерь, истомившись, лежала у «могил». Было тихо; над старыми могильными курганами тихо стояли трепетные осины, и в их тени ничком лежала женщина, и не хотела идти домой, в пустую черную избу, к сварливой теще, к вечно-голодным, кричащим детям.
Быстро и беззвучно шелестели над нею листья деревьев; тихо вдали кричал перепел; тихо плыли в усталой голове полумысли: приедет, наконец, земский начальник, получатся деньги, это давно-жданное казенное пособие семье запасного, взятого на войну... Что она купит?.. А там вернется Иван... Приятные мысли!.. Не хочется вставать с зеленой травы, не хочется идти домой!
— Аугинья-у! Аугинь-я! — доносится до нее долгий крик от села.
Она нехотя встала и пошла.
На краю села она увидела толпу людей около телеги, запряженной лошадью. Толпа стояла неподвижным и молчаливым кругом. Когда женщина подошла ближе, — все обернулись к ней и молча расступились, давая ей дорогу.
— Ну, что ж! Мусить така Божжа воля... Бяри своего мужика, Аугинья... Вярнулся!..
Это старшина, высокий мужик фельдфебельского вида, говорить ей, и тоже отступает от телеги с большой обтертой корзиной... И точно для того, чтобы сократить тяжелую сцену, он начинает громко кричать, будто и в самом деле он фельдфебель, а перед ним рота солдат.
— Ну, чаго стали? Ничипор, вяди коня, вяди шпарчей до двора; раступись!
* * *
Дома, когда мужики вносили корзину в избу, и после, когда бабы-соседки вынимали ее мужа и, обмыв и переодев, уложили его на палатях внизу, — Аугинья, потрясенная неожиданно свалившейся бедой, с полным недоумения лицом следила за всем, не принимая ни в чем участия. И только вечером, когда все ушли, и дети заснули, а Иван, лежа в углу, стонал и бредил и жалобно просил пить, а под окном надрывающе выла собака, — только тогда женщину охватило безумное горе; точно только тогда увидела она и поняла размеры своего несчастья. И упавши головой на стол, она начала тоже выть, жалобно, дико и протяжно, как над покойником.
— А и на кого ж ты нас, Иванюшка, поки-инул?..
И билась головой, и выла; и выли с нею вместе и собака под окном, и проснувшиеся дети на печи, и старая теща на полатях. Казалось, самые стены избы выли и плакали с ними; заполняя ночную тишину, вой этот несся по улице, по деревне, стлался по полям и болотам, поднимался к черному небу.
* * *
Когда, подвыпивши, мужик учит свою бабу, и сквозь соломенную крышу, дырявые окна и щелеватые двери на улицу вырывается заглушённый женский крик:
— А ратуйте ж вы меня! Смертынька моя пришла!..
Тогда мужчины проходят мимо избы, где осуществляются священные права главы дома, поспешно, отвернувшись, как будто ничего не слыша... Но женщин эти вопли чаруют и манят. Сначала они стоять у дверей своих изб и слушают; потом выходят за ворота, и с растерянными, нервно вздрагивающими лицами идут тихонько, как будто мимо воли, к своей бабьей голгофе; собираются кучками, шепчутся и посылают кого-нибудь к окошку подсмотреть; но потом, неудержимо влекомые, подходят сами и слушают, и сообщают друг другу шепотом:
— У груди, у груди... ой, забьет?
— А божухна ты мой! По чим попало!.. Об землю...
— Немае голосу... забил, мусить... Ногами бьет!! Таюлечки ж вы мои!..
И шепчут, и дрожать, и не могут оторваться.
Так и теперь, на вой Аугиньи потянули к ее избе бабы с обоих концов деревни и стали перед окнами табунком.
Поздней других пришла Кандубиха и, на правах старухи, прямо отправилась в хату. Понемножку начали проскальзывать за нею и другие, и скоро вся изба была полна. Одни стояли пригорюнясь и подперев головы руками, другие вытирали слезы концами головных платков, а среди них Аугинья еще сильнее голосила и билась головой о стол.
Вдруг из чьей-то могучей, страстно взволнованной груди вырвался рыдающий крик и заглушил охрипший голос Аугиньи; а за ним, точно вешняя вода в прорванную плотину, ринулись вопли остальных, безумные, отчаянные, гаснущие жалобным стоном:
— А й нема у вас вашого таточки!....
* * *
И опять шла по дороге Кандубиха со своей длинной палкой в руке; и опять за ней тянулась Аугинья.
На этот раз они шли в волость. Она прислала им полумертвое тело, пускай же она и освободить их от него.
В волости, в большой приемной, за решеткой, три помощника писаря, скучая и зевая, строчили бумаги. Фельдфебелеобразный старшина и писарь сидели в судейской и пили водку, закусывая огурцом. И сюда, в это царство житейской пошлости, шли эти безумные бабы со своими безумными требованиями. Они вошли, враждебные и возмущенные, и потребовали старшину.
— Што ж вы гэто, господин старшина, изделали? Привязли Ивана и кинули! А хто ж яго носить буде? а хто ж за ним ходить буде? Баба ж яго и не подыме! А поить-кормить?
— Змаялась я с ним, Боже ж мой! Нету моей силухны! Взяли у меня мужика, прикинули нима ведомо што! Бярите его куды хотите, ня треба мне ён такий!..
Долго бился с бабами старшина, просил их, и кричал на них. Писарь взывал даже к их человеколюбию. Но Кандубиха цыкнула на него, и он замолчал, как будто поняв, что и для человеколюбия есть невозможное.
Поздно ночью пошли бабы обратно, ничего не добившись и получив неопределенное обещание, что калеке начальство назначит, должно быть, пенсию, — не то три, не то восемь рублей в месяц.
Шли они убитые, злобные и подавленные этой непонятной и жестокой жизнью, под игом которой они жили весь век, которая взяла крепкого, здорового человека из семьи, чтобы подкинуть потом хуже чем труп, которая окружила их стеной непонятных форм, и противопоставила им людей с властью и силой. Этих людей, которые все могут. — Они ходят, просят, они требуют у них, — и всюду встречают глухую стену. Из этой жизни они пытаются выбиться, а она давить их все ниже к земле.
— Привязу к вам яго и кину: делайте же с ним, что вы сами ведаете! Привязу, до души привязу! — кричала Аугинья, выходя из волостного правления.
Но и тогда и теперь она чувствовала, что и что не приведет ни к чему. И вот она шла темной ночью, и темное глухое отчаяние все выше волной поднималось в ней и затопляло ее душу.
* * *
В лесу на узкой дорожке они встретились, почти столкнулись, с двумя темными фигурами.
— Кто хрещеный?
Но темные фигуры подались в сторону и, не ответив, быстро прошли мимо.
— Мусить Микита Бушковскій, — подумала вслух Кандубиха.
Потом, когда они вышли на поле, она вдруг остановилась и дернула Аугинью за рукав.
— Глянь!
Вдали за рекой, в речном тумане, играя в нем багровым отсветом, поднимался к небу столб огня.
— Ляди ж, бабонька, не кажи никому, што мы кого сустрели у лясу. Никого мы не бачили, никого...
Они стояли и глядели на разгоравшийся пожар, безмолвно и долго.
— Хай горит! Не наша шкода... Пойдем, девонька...
И вновь пошли, а в это время за лесом, позади их, поднялся другой красный столб; а немного погодя впереди, на горизонте, третий и четвертый, и где-то далеко чуть видный — пятый.
Через час все небо пылало громадным полукругом, и ветер наносил на них едкий запах гари и дыма. Гремя бубенцами, пронеслась вдруг тройка взмыленных лошадей и мелькнул красный околыш земского начальника. За тройкой расстилалась лошаденка урядника.
— Знайшоуся же и ён, ага! Знайшоуся же и ты! Спознали люди, як тебя гукнуть! — Смеется им вслед Кандубиха.
— Тетухна, — спрашивает ее вдруг Аугинья, — можа вы ведаете: чи их усих попалют? Чи пожгут их усих?
И смотрит на разливающееся огненное море и на столбы искр, змеей несущиеся по ночному небу, и, схватив Кандубиху за рукав, трясет ее, что есть силы, и кричит в припадке безумной, отчаянной злобы:
— Усих вас попалют, прокляты! Попалют и с дятьми вашими! Каб ня ведали вы спокою у сырой зямли! Каб ня было душеньки вашей прощенья! Иванюшка, родненький мой, Ива-а-а-нюшка!!..
* * *
Догорали пожары. Перепуганный Андрей Петрович и Анна Ивановна, а с ними и Соня с Сережей, доскакали уже до уездного города. И Аугинья успела уже заснуть беспокойным сном после ночи, полной огня и рыданий...
Из-за синей тучи на востоке разливался розовый свет, и по небу побежали сияющие лучи; дрогнули туманы над рекой, и начали таять и подниматься кверху. Старые казацкие могилы тихо лежали среди полусжатых полей, и глядели спокойно, как глядели уже сотни лет, на просыпавшуюся жизнь. Трепетные осины над ними шумели и дрожали от пробудившегося ветра; а громадное красное солнце всходило из лиловой теперь тучи.
Начинался новый день, новый акт «Сельской идиллии».
ДВЕ ДУШИ
I.
Привычка мысли, заставляющая меня смотреть на общественный процесс не иначе, как на процесс строго эволюционный, в котором каждый шаг вперед вызван и обусловлен всем предыдущим, в котором в каждом «сегодня» зреет будущее «завтра», — сделала меня мало склонным к утопиям. — Я думаю, не только для меня, но и для многих, это — почти бранное слово, которое мы легко и охотно даем всему, что мы считаем надуманным, не выросшим из прошлого, не подготовленным всем предыдущим.
Надо быть трезвым политиком, надо помнить, что «медленно движется время»; поэтому каждый день надо делать только тот шаг вперед, который сделать можно; его надо делать во чтобы то ни стало, — но дальше возможного и осуществимого не идти.
Я это усвоил, вероятно, и потому, что из всех афоризмов моего отца, в мою память врезалась всего сильнее сентенция: «Человека от петуха отличает чувство меры».
И я ясно чувствую «меру вещей», и отличаю возможное от неосуществимого, созревшее от зеленого, — пока вращаюсь в мире близко знакомых мне предметов и отношений, и обычных для человека моего общественного слоя углов зрения. Но зато всякий раз, когда я иду к людям другой жизни, — меня охватывает глубокое смущение, все ясное становится опять туманным, и я с сомнением поглядываю на мое «мерило».
Другая жизнь создает другие представления о нужном, должном, ценном и возможном; иначе оценивает, — что органически выросло и что произвольно; и то, что мне кажется верхом житейской мудрости, — зовет «слякотью», и рвется всей душой к «утопиям».
Отсюда тягостное непонимание друг друга.
----
Я жил однажды в небольшом уездном городишке, — настоящем гнилом болоте, где человек на улицах тонул в грязи, и где еще больше грязи было во взаимных отношениях людей.
Это было в черте еврейской оседлости. Город по этому был набить подневольными жителями, которым оставалось или найти хлеб на месте, или умереть на месте же. Веревка, на которой они были к нему привязаны, была, пожалуй, и не очень коротка: из какого-нибудь Борисова можно было ехать в Бердичев, а оттуда в Мозырь, или Ченстохово; но и Мозырь и Ченстохово так же перенаселены людьми, которые, после целого дня работы ужинают куском ржавой селедки, или головкой лука, и говорят приезжему человеку:
— Зачем приехал? Чтобы вырвать у наших детей корку хлеба?
Поэтому люди сидели на местах, — в местечках и городишках, — и находили в их грязи — одни свой скудный хлеб, другие полуголодную смерть.
Как они жили? На три какие-нибудь тысячи населения было там сто лудильщиков самоваров, пятьдесят портных «из Варшавы», «из Петербурга», и целая туча часовщиков, факторов, папиросниц и маклеров; было, быть может, двести лавок, и в каждой лавке на десять рублей товару. Эта жизнь была массовым опытом строгой диеты, граничащей с неупотреблением пищи, и вечного трепета. Оттого люди, ползавшие в грязи, были прозрачно бледны, преждевременно стары, и униженно робки и покорны перед всеми, кто носил на шапке кокарду, у кого бренчали в кармане рубли. Оттого эти счастливцы были так гордо наглы, как могут быть наглы только владыки, окруженные рабами.
— Эй, ты, парх! — кричит такая кокарда проходящему Янкелю, — беги ко мне домой, отнеси барыне записку и покупки, живо!
И вот, в таком то городе построили спичечную фабрику. Ее хозяева могли смело говорить, что они дали людям хлеб. И они говорили это, и даже больше.
— Вы видите, говорили они, какая это сволочь! Они дохли без нас; они глотки друг другу рвали, чтоб получить у нас работу. Мы их кормим, пархов, а они еще разные фанаберии выдумали... Стачки!
Но это было значительно позже, лет через пять, когда люди, воспитанные фабричными станками и порядками, зашевелились. Сначала же они, цепляясь за хлеб, терпели все, что угодно было их господам.
Порядки на захолустных, не замысловатых фабриках, где не представляет трудности заменить хотя бы весь персонал рабочих другими, — известны. Но в еврейском перенаселенном городке все безобразия не могли не быть возведены в квадрат.
Можно платить взрослому рабочему семь, а женщине — четыре, пять рублей в месяц? Можно растянуть рабочий день до пятнадцати часов? Можно. Так чего же смотреть им в зубы?
Но произвол и издевательство сильных растут пропорционально беззащитности слабых. Поэтому спичечный директор ходил по фабрики не иначе, как индейским петухом, и все, кончая надзирателями и мастерами, смотрели на мужчин, как на илотов, на девушек — как на наложниц.
— Приходи вечером! бросал мастер приглянувшейся девушке; и если она не приходила раз и другой, — её выгоняли вон, на ту уличную грязь, в которой вязли ее ноги с детства. У девушки был, таким образом, выбор только между тою, или другою грязью. Выбор зависел от многих причин: от силы духа, семейных обстоятельств, вкуса, развития...
В этой луже, в луже зла и унижения, люди бились долго. Но «свет и во тьме светит», и чем чернее ночь, — тем жарче стремленье к свету. Я познакомился с фабрикой и ее жертвами, когда они были все охвачены огнем «утопий», в которые верили, и за которые хотели биться. Познакомила меня с ними моя старая приятельница Гольда, еврейская девушка, служившая на фабрике наклейщицей бандеролей. Однажды вечером она пришла ко мне с подругой и молодым рабочим, и говорит:
— Мы хотели поговорить с вами о нашем деле. Мы хотим начинать стачку.
Первый вопрос, который в таком случае возникает, — и я задал его им:
— Какие же у вас средства, есть ли стачечный фонд, деньги?
— Ну, что вы! И какие же у нас могут быть деньги?!
— Но как же тогда бастовать? Вы не сможете выдержать и недели...
— Ах, как же не выдержать! Надо выдержать, мы всякий голод можем выдержать, только такой жизни с нас довольно!
— Это уже у нас решенное дело, вмешивается ее подруга... Мы вас хотим просить не об этом. У нас есть требования, — вы нам составьте их и хорошо напишите на бумаге.
— Мы вам расскажем, а вы напишите. Но напишите так, чтобы дирекцию пробрало, чтобы они почувствовали беспокойство под своими жилетами. Вот что вы им должны написать...
Гольда срывается с места и быстро бегает по комнате минутку. Потом становится против меня, вытянувшись, как струнка. Глаза, — большие, мрачные еврейские глаза в широких буро-синих кругах на прозрачном лице, — широко раскрыты и смотрят поверх меня, вдаль, и, я думаю, ничего не видят.
— Вы должны им сказать, что они пьют нашу кровь! — диктует она мне. Что они губят наши души. Что они подлы, как самые жестокие эксплуататоры! Was sag’ich? Как звери! Да!.. Но мы поняли наши права, и мы объявляем им войну!
— Мы требуем, — пишите: требуем, а не просим, — требуем законного рабочего дня... Вы думаете, мало десяти часов, чтобы отравиться фосфором? Мы требуем справедливой платы и вежливого обращения. Скажите им, что все мы знаем, что мы их кормим, мы даем им дивиденды. Пусть они нас уважают!
— Пусть они лечат нас от своего фосфора и серы; пускай летом дают отпуска; больным — пенсию! Что? Или нам не надобно здоровья? Или нам не нужно жизни? Мы не такие люди, как все?!. А если не могут сами, — пусть обращаются к правительству, — нам все равно. Нам все равно, как они сделают, но мы хотим быть здоровыми. А там нас убивают...
Ее голос все повышается, и она почти кричит, и гневно бросает обвинение в лицо своим отсутствующим врагам. Я смотрю на худенькое трепещущее тело заморенного ребенка, одетое в ветхие тряпочки, на горящие лихорадкой глаза, слышу этот треснувший, рвущийся голос, — и зародившееся было чувство острого сожаления быстро гаснет, чтобы уступить место другому, — чувству неловкости за собственное благополучие, и глубокой серьезности того, что предо мной происходить.
— Нас, девушек, постоянно оскорбляют и унижают, нас позорят... Пусть эти подлые мужчины не смеют входить в наши мастерские. Пусть заводят мастериц. Мы не хотим видеть мастеров, директоров... Этих!.. — Мы не хотим тоже, чтобы нас выбрасывали на улицу, как кошек, по первому доносу мастеров, мы требуем, чтобы был особый комитет из рабочих и хозяев, поровну. Пусть комитет рассчитывает и принимает рабочих, пусть разбирает ссоры, пусть он ведет дело!
— Вы им напишите, что мы поведем дело не хуже их. Что мы не глупее их, и честней. Мы, бедные и голодные, мы сто раз честнее их! И мы поведем дело хорошо, и с них довольно будет, дивидендов, — пусть давятся ими! но мы не хотим быть больше рабами; и не будем! Поняли вы это?!.
Я. конечно, понял. Но я подавлен и потрясен. Я ничего не могу возразить ей, я согласен и с тем, что проектируемый ею порядок хорош и справедлив; понимаю, что он созрел в них с силой психологической необходимости, что все в нем законно, нужно для них, и в будущем неизбежно. И в тоже время я знаю, что требования неумеренны, неосуществимы, утопичны. Припоминаю о петухе и чувстве меры, и — молчу.
— Что же вы ничего не говорите? Вы, может быть, не согласны? Я может быть, напрасно привела их сюда? — тихонько говорить Гольда, и смотрит на меня презрительно и враждебно.
— Нет. Я согласен...
— Но тогда чего ж вы молчите?
— Мы начинаем говорить, и я выясняю свою точку зрения. Требования о сокращении рабочего дня и об увеличении платы я считаю осуществимыми. Быть может удовлетворять и требование о мастерицах. Но это мало изменит дело. Летний отдых нигде не практикуется, по крайней мере с сохранением заработка. Пенсии возможны там, где есть страхование; у нас его нет. Но комитет из рабочих для управления фабрикой — это утопия. В сущности, это почти социализм, последний этап к нему... И я начинаю доказывать правомерность частичных улучшений, количественных перемен, и полную несвоевременность тех глубоких социальных изменений, которые проектирует социализм.
— ... И общественные условия для этого не подготовлены, да и вы сами не созрели — кончаю я.
— Что вы нас пугаете разными словами, — сердито возражает Гольда. Социализм! Социализм! И что это значить «созрели» и «не созрели»!
— Вы думаете, что мы созрели только для такой спичечной фабрики, как эта? Да? А для хорошей жизни мы не созрели? Ну, вы подумайте сами: — разве мы наши требования из головы выдумали? Ну, пусть нам прибавят сегодня плату... Ну! Сегодня прибавят, а завтра убавят? Нам тогда опять стачку? Вы думаете, мы очень любим ничего не кушать? Или, — нам сделают уступку, а его — и она показала на своего товарища — выгонять? А Стась нам нужен. Это он привез нам из Варшавы все нашли мысли. Мы без него еще долго были бы как в лесу. Он всем нам нужен, все его любят, и — его выгонять, а мы будем смотреть?
— Но, Гольда, — пытаюсь я убедить се, — ваш комитет наверно обанкротить фабрику. — Если всюду условия работы тяжелы, — то отдельная фабрика не может представлять исключения. Она лопнет, и вы все останетесь без работы.
— Тогда мы пойдем на другие фабрики, пусть лопаются и они!.. Ну, что же вы на меня смотрите? Чего же вы испугались? Какое нам до них дело? Или, вы думаете, мы должны охранять эти разбойничьи гнезда, эти ямы, где нас водят к директору и к мастерам?..
— И все это пустяки! Разве люди могут жить без спичек, или без ситца? Это все ложь, это вы все выдумали, — да, вы, вы, сытые и богатые и ученые, для того, чтобы все оставалось по-старому, и вы по-старому были богаты и ленивы...
— Гольда, вы говорите, как разнервничавшаяся женщина. Так нельзя. Что думает ваш товарищ?
Стась, — молодой человек, на видь хилый, с тонкой, точно иссохшей мелкоморщинистой кожей на подвижном лице, с тихими и скромными манерами, — сначала как будто поддержал меня.
— Пан есть правь, — начал он с явно польским акцентом, — дай Бог, чтобы можно было достать половину того, что мы требуем... Але, але, что же можно з наших требований отбросить? А ни одной буквы! И для того есть много причин. Первая причина практыческая: в этом деле треба запросить. Но важно не это. Важно то, что уступки, которые мы получим, стоят нам самим сто раз дороже Дали Буг! Из-за них биться не стоить. Нет интереса. Мы живем, як в тюрьме, мы ломаем себе пальцы, чтоб отодвинуть засов. Вот наша цель! Кто станет ломать себе пальцы, если не мает надеи выйти на свободу? Только сумасшедший. Мы же должны иметь надежду, должны иметь свою великую цель и к ней стремиться. — И то еще далеко не социализм... Но и совсем не то, что советуете нам вы... Э! Я вем, — вы думаете, что с этих работников досиць и того, что есть, ну, в Германии: страховка, пенсии, еще что? Н-не-т! То с вас довольно; но нам — мало, мы идем дальше; и чтобы идти в далекий путь, нам нужно собрать свои силы и зажечь в нашем сердце огонь и поставить перед собой идэал! Вот, что нам важно. Да. То есть для нас найважнешее. А выйгрыш якого-нибудь гривенника... И гривенник, конечно, не мешает, но то есть второе...
До глубокой ночи сидели мы и обсуждали детали. Т.-е. обсуждали они, а я сидел и слушал, и иногда напоминал о благоразумии. Но, в сущности, я был сбить с моей позиции.
На другой день фабрика стала, и рабочие предъявили свои «пункты».
— Боже мой, что за крик поднялся в городе!.. Это была первая стачка, а требования были исключительно смелы и широки. По моему настоянию, был подан голый список их без мотивов и объяснений, как хотела Гольда; но и этого было достаточно, чтоб уездное болото застонало и заходило, как на дрожжах. Тогда-то и говорил один из патронов про рабочих, что они «неблагодарные сволочи», — а исправница уверяла знакомых дам, что «пархи будут делать восстание, потому что они демократы».
Власти в ожидании этого мобилизировались. Но забастовщики сидели смирно. В то время, как верхи общества гудели, будто растревоженные пчелы, низы напряженно молчали. Только утром каждый день рабочие сбирались к фабрике и, потолкавшись около нее с полчаса, и потолковав между собою, тихо и медленно расходились.
ІІ.
Лениво ползут по низкому небу тяжелые серые тучи, и плачут мелкими и частыми каплями.
Плачут вместе с ним дырявые, черные крыши, плачут высокие пирамидальные тополя и в отчаянии поднимают к угрюмому небу свои полуголый ветви; грязными потоками стекают эти слезы с глиняных стен вросших в землю мазанок, и застаиваются лужами, подобными озерам, на пустырях и кривых мрачных улицах города.
Пусто. Никому не охота мокнуть под дождем и месить липкую грязь. Тоскливо и пусто. Только изредка проедет в телеге крестьянин на унылой лошаденке, или полуголый мальчишка, скользя, пробежит в отцовских калошах на босу ногу в соседнюю лавченку... Кажется что жизнь замерла.
Уже больше недели тянется стачка. Сначала она волновала, и люди сновали по улицам и собирались кучами и толковали. Но когда стало известно, что нескольких «коноводов» забрали в тюрьму, что из соседнего города пригнали рогу солдат, когда увидели, что ни страх, ни голод не берет «сумасшедших» рабочих, над городишком нависла серая туча тоски и опасений.
— Бог знает. Бог знает, что это будет, — вздыхает Мордух Литвинер, у которого я покупаю табак и гильзы, — Бог знает!
Он долго и удивленно смотрит грустными глазами куда-то в пространство, точно ищет и не находить там ответа, и, наконец, сообщает мне:
— Борух пишет из Аргентина: продал купцам двести быков... Две сотни быков! Живут же люди!
Он нагляделся на окружающую его нищету, и эта Аргентина рисуется ему земным раем, и изумляет.
Хромой булочник, который приносить мне по утрам баранки и булки, тоже угрюмо бормочет:
— Подохнуть с голоду, больше ничого! Где ж гэто видано, каб хвабриканты змилостивились над народом? А им яще и солдатов пригнали...
Я выбрал минутку, когда дождь перестал, и пошел посмотреть, что делается у моих друзей. По дороге мне встретилась Гольда.
— Ну, что у нас нового?
— Нового? Вы, может быть, слышали? Сегодня взяли и Стася. Он в тюрьме...
Мы идем за город, туда, где кончается ряд убогих лачужек и, направо, стоить угрюмая красная фабрика с высокими трубами и башнями-бастионами по углам. Чудак-архитектор построил се в виде разбойничьего замка, и высится она, тяжелая и грозная, своим зубчатым фронтоном над тонущим в грязи рядом землянок ее подневольных рабов. Налево от дороги, прямо против фабрики, разлеглось низкое, длинное здание за высоким частоколом. Это тюрьма. Как хищный зверь, прижалась она к земле и караулит добычу. Из-за частокола виден только верх крыши и черное слуховое окно. Им она смотрит, что делают возмутившиеся рабы ее угрюмой соседки.
— Видите, нам надо бороться с ними обеими, говорить мне Гольда. Они друзья и соседки.
— Плохо, вероятно, там Стасю...
— Нам плохо, а ему... Вы разве думаете, что тому, кто жил здесь — и она кивает головою направо, — страшно быть там? — И она кивает налево.
Мы идем молча назад, и у своей двери Гольда приглашает меня:
— Захотите к нам. Старики будут рады.
Старый Хаим, отец Гольды, сидит за столом и читает толстую книгу. Из под черной ермолки длинные белые локоны падают на тонкое, бескровное лицо с усталыми большими глазами.
Что хорошего, Хаим?
— Что может быть хорошего? Я давно не видел хорошего... И не будет...
— Разве вы думаете, что дело у них не кончится добром?
— Что я могу думать? Почему я знаю? Дети хотят быть умней стариков, хотят переделать свет. Хотят за злот купить лесу на целый плот...
— Вы, тате, оттого не верите нам...
— Ша, Голдэ! Vеrdur mir nit a сор! Ну, скажите вы ей, вы образованный человек, вам она больше поверит. Что ж, очень они испугались их стачки? Они, может, голодны от того, что у них стачка? Но мне она не верит, она как молодой конь...
— Я уже говорил Гольде — по моему мнению, следовало бы идти на уступки. Только она и меня не слушает.
— Будет она слушать! Но и уступки ничего не помогут... Все равно, будет стоять и нюхать свой фосфор, будет клеить бандероли и дышать своим фосфором... Такая жизнь. А разве мы можем не уступить?
Он сидит весь согнувшись, библейская голова ушла в плечи, и глаза смотрят покорно и горько.
Маленькая старушка, вся сморщенная, по старинному — в парике, сидит у печки и быстро вяжет длинный чулок.
— У них капитал, мы бедные люди... разве могут они сжалиться над нами?
У двери на лавке дремлет крестьянин. У каждого крестьянина есть в городе свой еврей, к которому он заезжает, когда бывает на базаре, к которому сваливает непроданный воз дров, или куль овса. В белой свите и белых онучах, в белой вязаной шапке на белых волосах, сидит он неподвижно и безучастно и как будто спит. Но тут он поднимает медленно веки над белыми глазами и медленно говорит:
— Што хвабриканты, што паны... одной хевры! За землю плати, за воду плати... Кабы сила, за слоньце бы гроши брали... А усё им мало. — Нима, и не былó у них прауды!
Мне становится душно под этим низким потолком, где безнадежная тоска свила себе такое прочное гнездо,—и я встаю.
— Проводите меня, Гольда.
Мы идем по узким, скользким мосткам, чернеющим дырами, и я говорю ей:
— Будем смотреть трезво на вещи. Никто в городе не верит в успех вашего дела. Сдавайтесь! Чтобы сдаться с честью, выторгуйте себе какую-нибудь маленькую уступку и кончайте. Вы напрасно изголодаетесь и посадите еще несколько человек в тюрьму. Гольда, на вас ляжет нравственная ответственность за это.
Она долго молчит, потом отвечает тихонько.
— Я знаю, и вы нас мало уважаете. Вы только жалеете. И для вас — это я, или Стась, или еще кто-нибудь подстроил стачку, и как построил, так может и кончить, когда захочет. Ведь остальные — бараны, и идут, куда их гонит пастух? Ну, да; работники, — это, ведь, дураки, они живут, как свиньи, и сами ничего лучшего не хотят, им самим ничего не надо; на фабрике все хорошо; может быть, фабриканты даже ангелы? Виноваты все мы, агитаторы...
— Гольда, не в этом дело. Бастовать дальше рабочим не выгодно, и вы должны это им объяснить.
— Им не выгодно! А мне, мне это выгодно? Она выбегает вперед, становится передо мной и загораживает мне путь.
— Мне выгодно? Скажите! Какое шелковое платье я сшила себе из этой стачки! Может, я на ней так заработаю, что закажу себе лисью шубу? Что? Вы, может, думаете, что я очень много кушала сегодня? Что у меня полный карман денег?
— Гольда...
— И что вы мне все говорите о выгоде? Что, мы лавочники? Или хозяева? Капиталисты? Мы люди, у которых не хватает силы, не хватает терпения... Поймите вы это!
Она стоить передо мной и треплет и рвет рукою свою ветхую кофточку, а ветер треплет и рвет ее волосы и платок, свалившийся с ее худеньких плеч. Я чувствую, как вздрагивают на ветру эти плечи и дрожать ее тонкие ручки, и говорю ей:
— Дорогая моя. Тем более беречь надо вам и себя, и других...
— Ах! Это мысли тех, у которых есть свой маленький капиталь... Вот они очень любят его беречь, чтобы получить себе на него маленькое удовольствие...
— Знаете, Гольда, я думаю, вы немножко сумасшедшая.
— Ну, конечно. Тогда пойдем, я вам покажу других, не сумасшедших... Пойдем...
Мы сворачиваем в узенький переулок, где нет и мостков, и бредем ощупью, скользя и спотыкаясь и хватаясь за колья забора, чтобы не растянуться в грязи. Уже совсем темно и пусто. Жалобно воют собаки, и жалобно воет ветер и свистит в голых ветлах.
— Дайте руку. Нагнитесь.
Мы пробираемся темными и узкими сенями и входим в низкую комнату, где за столом сидят и ужинают несколько человек.
— Я привела вам его. Он хочет вам говорить, — объясняет им Гольда.
— Садитесь, пожалуйста! Мне любезно подставляют стул и извиняются, что нечем меня угостить; сами они ужинали печеным картофелем с солью, и даже без хлеба.
— Как ваши дела? — спрашиваю я.
— Ну, наши дела всегда немножко хромают, — смеется мне в ответ хозяин, сильный и веселый молодой человек. — Но и не совсем плохи. Знаешь, Гольда, кто у нас только что был? Брызгун. Видишь? Он приходил нюхать. Им тоже невыгодна забастовка. Они как раз собирались зажечь своими спичками все Заднепровье. Брызгун там целый месяц ездил, все дело наладил, а тут стоп! Не работаем! Он тут уж юлил, юлил... Старая лисица...
— Что он вам предлагал?
— Да так, пустяки, нестоющее. Просто шпионил — все ли проели, или остались еще какие-нибудь бебехи...
Тем не менее, я начинаю развивать мою мысль и уговариваю воспользоваться первыми даже небольшими уступками, чтобы прекратить забастовку. Несомненно известно, что фабрика решила на большие уступки не идти. Какой же смысл в бесплодном упорстве?
Меня слушают внимательно и вежливо спорят. Только пожилой, угрюмый рабочий, который все время молчит и старательно очищает трясущимися руками картофельную шелуху, посматривает на меня враждебно и, наконец, встает и уходить за перегородку. Мне слышно, как он там нервно стучит чем-то и что-то бормочет.
А у нас спор идет долго и упорно, хотя очень любезно. Гольда молчит и не вмешивается. Я подхожу к вопросу с разных сторон; жую его и пережевываю; аргументирую, как мне кажется, неотразимо; но неуспешно, так как мои внимательные собеседники остаются при своем, — складывать оружие рано.
Вдруг из-за перегородки выходить к нам тот, угрюмый, и, обращаясь ко мне, говорить волнуясь и спеша:
— Извините меня, это, может быть, не вежливо. Но, только, зачем вы пришли? Зачем вам нужно все это говорить? Вы думаете, вы хорошее дело делаете? Это хорошо людям, которые и так чуть держатся, дух убавлять? Вы зачем днем не пришли? Вы бы слыхали тогда, как мои дети пищать: «Тателе, хлеба»! Мои, ведь, дети пищать! Что ж, вы думаете, я на фабрику не иду с дуру, или от того, что ушей не имею? Вы лучше нашего дела наши знаете? Я вам правду скажу: не люблю я таких советчиков.
Тут за меня заступается Гольда.
— Борух, ты не правь. Он наш друг, он нам пункты писал...
— А когда вы наш друг, то вы должны знать, что мы должны держаться до последнего. В чем наша сила? В капиталах? В запасах? Чем же нам держаться, если и верности в нас не будет? Мы сказали наше слово, и должны стоять на нем, пока можно. И не должно у нас быть изменщиков. А вы ходите и соблазняете. Кого вы соблазняете? Голодного человека? Хлебом? Ну, хорошо; найдете вы слабых людей, послушают они вас и начнут кричать: становись на работу! А мы будем кричать: бастуй! Ведь мы глотки себе перервем! Вы не видите что ли, что вы играете на руку капиталистам?..
Я молчал. А он не обращая уже на меня внимания, говорил, обращаясь к своим товарищам, все разгораясь и все больше волнуясь:
— Пусть будет проклят тот, кто пойдет на уступки капиталистами кто изменит своему слову. Пусть они идут к нам и просят! Что? Не пойдут? Останутся без своих доходов? Псс!.. Вы знаете, когда я пойду на работу? — обернулся он вдруг ко мне. — Когда проем последнюю рубаху. Тогда мне не будет стыдно. И когда весь пролетариат научится так бороться, тогда он победит!
Веселый хозяин подошел ко мне и, как будто извиняясь передо мной, сказал:
— Мы все так думаем, все, кто сознательный...
Но Гольда была неумолима.
— Ну, здесь вы довольно послушали. Пойдем дальше. Я вас хоть до ночи водить буду, — послушайте и других...
Но мне было ясно, что и в другом и в третьем доме я услышу то же самое, увижу ту же гневную пролетарскую душу, охваченную рвением великой борьбы. Слеп энтузиазм. И в этом его страшная сила.
Я шел домой один, подавленный ощущением дурно проведенного дня. Соблазнял голодных людей, идущих в последний бой. Отнимал у них нравственную силу. Сытый скептик, трезвый мыслитель, я спасовал под конец перед голодными энтузиастами. Но разве не голодные энтузиасты строят новый, прекрасный мир?
Это не помешало мне, конечно, оказаться объективно правым. Стачка тянулась восемнадцать дней и кончилась тем, что обессиленные рабочие стали на работу на старых условиях. Гольду же и еще человек десять совсем рассчитали.
Мне пришлось уехать, и я почти месяц не видел ее. Наконец, она зашла ко мне.
— Пришла к вам попрощаться. Еду в Гомель, на бумажную фабрику...
— Что ж и там будем бунтовать?
— А как же, что же нам еще делать? Буду работать и бунтовать.
— И в тюрьму попадете... ведь здесь вас от нее только случай спас...
— Ну, что ж? И в тюрьму. Чем же я лучше других?
— Не в том дело, что вы лучше других. Дело в том, что вы все зарываетесь, моя дорогая...
Глядя на ее обтянутое личико, на лихорадочный блеск ее глаз, я думаю о том, что вся ее жизнь проходит в тяжелой работе и в еще более тяжелой борьбе с жизнью. Она, эта маленькая евреечка, кажется мне живым воплощением всего этого громадного слоя, который, через силу работая, через силу бьется за мечту, за почти неосуществимое.
И мне хочется избавить их, если не от тяжести нужды и труда, то от тяжести бесплодной и добровольной битвы, и я ищу слов, чтобы найти ход к ее уму и ее сердцу. И поэтому, прощаясь, я еще раз повторяю ей то, о чем так часто уже говорил... о чувстве меры.
Я говорю и вижу, как по лицу Гольды разливается выражение тоскливой скуки. Наконец, она не выдерживает.
— Перестаньте! Вы просто ленивы и все ваши чувства ленивы и дряблы...
Глаза ее вспыхивают гневом, и она, прищурившись, пристально смотрит на меня...
— Знаете, кто бы я была, если бы слушалась вас? Я была бы ломовая лошадь и больше ничего... Кто из нас, из работников и работниц, сидит тихо? Кто ничего не понимает, или совсем забит, так забит, что даже забыл, что он человек. Но, кто это помнить, тот всегда будет биться до самой смерти... И пусть нас гоняют из одной фабрики на другую, и пусть нас сажают в тюрьму, пусть делают, что хотят, — мы, все равно победим! Разве можем мы не победить?
Первая половина допущений моей милой приятельницы сбылась с большой точностью: ее вскоре прогнали с Гомельской фабрики, а затем посадили в тюрьму и сослали в Сибирь.
Не должно ли отсюда заключить, что правильно и все ее построение, и что они не могут не победить?
ОСНОВЫ ЖИЗНИ
В моей зеленой Белоруссии «спокойно». Туда залетают только отзвуки бурь, разыгрывающихся в других местах любезного отечества, а между тем... А между тем, я перестал туда ездить, потому что ездил я отдыхать, а «отдохнуть» нельзя теперь и там.
Все, вся жизнь насквозь пропитана и изуродована безудержным зверством, возмущающим душу и поднимающим в уме один вопрос: как возможно все это? Этот развал жестокости, не щадящей никого, ни даже стариков и детей?
Говоря о жестокости и зверстве, как об основе нашей жизни, я, конечно, не преувеличиваю, да кроме того, я видел так много сам, своими собственными глазами, что за моими словами стоит не произвольное мое обобщение, а нагой непререкаемый факт, много фактов, из которых я могу черпать, сколько хочу.
Я помню, напр., одну ночь, холодную осеннюю ночь, с мелким дождем и порывистым ветром. Я ехал домой по распустившейся глинистой дороге, и лошадь моя тяжело вытаскивала ноги из липкой грязи и звучно чмокала при каждом шаге. Я слышал днем еще, что в Вордати крестьян «вразумляли действием», и не решился ехать через деревню, а обогнул ее далеко лесной дорожкой.
— Аа-аа-аа-а! Аа-аа-аа-а! — доносится до меня вдруг какой-то хриплый вой, с взвизгивающей ритурнелью на конце. Сначала тихий, смешивающийся с шумом ветра, он становится все громче но мере того, как я двигаюсь вперед, но иногда обрывается, чтобы через минуту начаться вновь. Остановив лошадь, слушаю. Жалкие, рыдающие звуки с убийственною правильностью ползут ко мне из мрака ночи. Слезаю и ищу— и нахожу. В кустах лозы, на пропитанной водой земле, сидит старуха в одной рубахе и «споднице» и воет, держа на коленях седую голову старика. Он лежит, неестественно подкорчив ноги, весь грязный, и тяжко вздрагивает и хрипит протяжно и долго. А она, распустив над ним седые космы волос, вывалившихся из-под платка, вторит ему тоже долгим и тоже хриплым воем. Раздетые, истерзанные, почти уже не люди от холода и горя, лежат они у моих ног, и я напрасно хочу узнать, что с ними, и как им помочь. Мир для них уже не существует, и они меня не слышат, или не желают слышать.
Я долго трясу женщину за плечо и кричу ей в уши...
— Забьють! — отвечает мне, наконец, она сухим деревянным голосом, и опять начинает выть и киваться в такт своим воплям.
Я надрал бересты, собрал дров и с трудом разжег сырое дерево. И тут, при слабом свете дымного костра, я разглядел стариков и узнал, в чем дело. Укрываясь от нагаек, он уполз в кусты за деревней, и здесь его настигла пуля, пробившая ему живот. Уже раненый, он полз еще весь день, все дальше и дальше, и здесь, верстах в двух от дома, нашла его, наконец, старуха. И здесь же остались они на долгую осеннюю ночь умирать от холода и ран, не решаясь вернуться домой. Я хотел отвезти их в деревню.
— Ой, не вязите ж нас у двору, ой, не вязи те! Зобьють яны нас! Забьють! Лепше же туточки помирать, чим у их руках! Аа-аа-аа-а.
Я поехал в соседнюю усадьбу за помощью и людьми, и застал там семью за ужином; около хозяйки сидел молодой офицер, чистенький и розовенький, с шеей, туго подпертой трехвершковым воротником, и наивными рачьими голубыми глазами. Он вкусно ел и оживленно болтал. Он рассказывал о том, как неприятна такая служба и какие ужасные дураки эти мужики.
— Жаль их, конечно, но, с другой стороны, нельзя же и позволять им... Вышли с палками: не пустим! Уходите, откуда пришли! Черт знает что!..
Хозяйка, больше чем всегда молчаливая, с напряженным и тревожным лицом, не смотрела на офицерика, точно в нем было что-то страшное или отвратительное; а я глаз не мог оторвать от этого спокойного. красивого, вкусно закусывающего человека, и не мог понять, как может он есть, когда подстреленный им старик корчится в лесной грязи и старуха воет над умирающим человеком во мраке ночи.
Когда к ним приехала помощь, старик был мертв, а женщина сидела уже над трупом и так же выла и качалась. Когда через несколько дней ее отправили в деревню, она осталась там в пустой черной избе и, верно, каждый вечер, когда за окном плачет ветер и хлещет осенний дождь, сидит на печи и во мраке тоже воет.
— Аа-аа-аа-а!..
А зимою в другой деревне случился «грех» — спалили помещичье гумно. Этот грех был звеном длинной цепи грехов, господских грехов, всегда безнаказанных, которые обитатели деревни именно поэтому копили в сердце своем, долго копили, от дедов и прадедов, чтобы дать, наконец, волю в тот день, когда им показалось, что лопнула цепь векового рабства.
За это на совете той мелкой сошки, которая в уездах представляет «власть», решено было проучить деревню. Устроен был привод мужиков через урядников и стражников в волость, при чем приказано «поучить».
Такая операция должна или совершенно не удастся, или не может не сопровождаться некоторым увлечением, особенно если на месте действий, или на пути к нему, есть кабак.
Так в данном случае и было; и потому исполнители увлеклись серьезно, тем более, что встретили кое-где сопротивление.
Рядом с селеньями живых, всегда имеются селенья мертвых, «могилки», где тихо лежат под маленькими деревянными крестами ушедшие из жизни мужики и бабы. Тихо шумит и волнуется вокруг них летом рожь, а зимой, когда земля покрыта толстым слоем снега, только ветер тихо плачет в ветвях редких надмогильных берез. Но в ту ночь, когда на деревне свирепствовала банда опричников, все, что могло бежать от их жестокости, бежало сюда, под защиту крестов и могил.
Сюда собрались все дети, все женское население деревни. Иные полуодетые, иные с грудными младенцами на руках. Здесь, сбившись, точно испуганные овцы, в трепещущую кучу, сидели они и слушали крики и топот всадников и выстрелы там, на селе, слушали плач детей и свои заглушённые, испуганные стоны здесь, на кладбище. И дрожали от ужаса и мороза. А долгая зимняя ночь тянулась убийственно медленно, и убийственно медленно плыли по морозному небу далекие звезды. Когда же настало утро и затихло смятение на селе, оно почти затихло и на кладбище. Тихо сидели, прижавшись к крестам, полузастывшие женщины и дети, и еще тише лежали между ними замерзшие трупики тех, кто не вынес морозной ночи. Таков был финал педагогического эксперимента предержащей власти, эксперимента, возвращающего нас в глубь веков, к временам набегов половцев и татар.
С тех пор прошли века. Века прошли, и ничего не изменилось в деревенской жизни. Так же стеной стоить глухой и темный еловый лес, так же жмется к нему своими черными изгибами деревня, кривая, крытая соломой, поросшей зеленым мохом, с крохотными, заткнутыми тряпками оконцами. Так же по улицам ее бродят боязливые или пасмурные люди, со страхом снимающие шапки, когда с грохотом и треском в село врываются ватаги «лихих» людей, или вдруг появляются татарские наездники, сборщики ясака, и другие власти, посещение которых имеет три исхода: быть битым, быть обобранным, бежать в леса и болота. А потом мстить, кому попало и как попало.
От этой черной жизни на души людей ложится накипь черных чувств, черных мыслей, и ничто, и никогда не смоет се с души матери, ребенок которой замерз в ночи, на кладбище, в то время, когда в деревне учили мужа добрым нравам.
На душу парода эта накипь ложилась долгими годами, но никогда обстановка жизни не способствовала ее образованию так, как теперь. Незримо и неслышно, в жестокой атмосфере наших дней, совершается перерождение чувств и мыслей масс. Точно сорную траву, выпалывает жизнь мягкие, добрые чувства, и на место их вырастает жгучая злоба. Этот процесс перерожденья я наблюдал недавно.
В одном маленьком глухом местечке у меня есть старый друг, местный еврейский раввин. Я не знал в жизни другого более нежного, более неземного существа. Тонкий, почти воздушный, с легкими неслышными движениями, с изумительно чистыми линиями изящного бескровного лица, он жил в бедности и тесноте, не замечая их, не тяготясь ими, весь отданный своим книгам. Среди еврейских талмудистов нередки люди, до дна ушедшие от жизни в схоластику и мертвый формализм. Но моего друга спас от этой духовной смерти присущий ему кроткий и восторженный идеализм, пылкая и юношеская любовь к людям. Странно было видеть в грязной и отвратительно-убогой обстановке местечковой жизни, шумной, жадной и голодной, этого старомодного человека в длинном старомодном лапсердаке, белых чулках, туфлях и порыжелой бархатной ермолке. Точно осколок другого мира, он был поэтом и мечтателем среди лавочников и кузнецов, кротким учителем прекрасной жизни, среди людей, поглощенных ожесточенной борьбой за существование. Влиянием он пользовался громадным и добрым. Всем было ясно, что этому человеку для себя ничего не нужно, и потому его, проникнутые простотой и восторженной добротой слова находили отзвук у всех, и для всех его единоверцев, на много верст вокруг, он был судьей, руководителем, кротким «учителем жизни».
Таким я знал его давно, но не таким увидел его недавно. Я заехал к нему случайно, застигнутый непогодой, и остался ночевать. Когда давно не видишь человека, особенно остро воспринимаешь все перемены. И меня сразу поразило потухшее выражение прежде всегда лучистых счастливых глаз на обострившемся лице.
— Что с вами? Болеете?
— Я? Нет, я не болен. Я здоров.
Я смотрю кругом. Еще бедней, чем прежде; и нет той ослепительной чистоты, которой всегда сверкали полы и стены и все в этом бедном доме.
— Где же все ваши?
Еще острее сделалось бескровное лицо моего друга, и он мне ничего не ответил, — только восковые пальцы тонких рук пришли в неопределенное движение, полное безнадежности, как будто говорили:
— Что могу я знать?!
Потом, долго помолчавши, прибавил:
— Жена лежит там... она без ног... Да. Рахиль без ног...
И уставился на меня упорным вопрошающим взглядом.
— А дети?
И опять в ответ то же движение рук, не то неведения, не то безнадежности.
Мне стало ясно, что я стою на свежей могиле разрушенного существования, и язык не поворачивался задавать вопросы. Томительно тянулось время, и я был рад, когда мог уйти спать.
Но мне не спалось. Не спалось, видимо, и моему хозяину. Долго слышал я тихие шаги его ног в соседней комнате и тихое бормотанье, по временам легкие стоны, почти вскрики. Была глухая ночь, когда мне не под силу стал этот мрак, наполненный задушенными стонами, и я зажег свечу.
— Вы не спите?
В дверях стоит мой хозяин и смотрит на меня лихорадочно горящими, полными отчаянья глазами.
— Вы не спите? Я тоже не сплю. С тех пор, как все это было, я не сплю... Вы же помните Хаю? Всегда играла у вас на коленях...
Он наклоняется ко мне близко-близко и, глядя на меня тем же упорно-вопрошающим взглядом, начинает шептать:
— Убили. Ее убили. Палкой по голове. Понимаете? — палкой! В Гомле. Да, это было... В Гомле, палкой, мою Хаю... маленькую девочку... Ха-аю!
Руки его вцепились тонкими пальцами в мои, и безумные глаза смотрели безумным взглядом в мои глаза, пока я с силой не вырвался и не пересел на другой конец постели. Но человек даже не заметил этого. Он равнодушно встал, и зашагал по комнате.
— А где ваш сын? — спросил я его наконец.
Он опять беспомощно развел руками и не ответил.
— Это ваш народ сделал все это. Ваш подлый и жестокий народ. Злой и безжалостный. С звериной кровью, с звериной душой... Но Бог накажет. Бог заступится. Он потопить все в море, как потопил фараона! Он похоронит вас в песках пустыни, как хоронил противящихся его воле; Он пожрет вас огнем, как пожирал грешников; Он поразить мечом, как поражал мечом Давида и Манассии; Он разрушит над головами вашими домы ваши, как разрушал руками Самсона: потому что звери вы, и нет в душе вашей жалости... Хаю, mеіnе Хаю!
Он начал сдержанным, тихим дрожащим голосом и кончил криком, грозным и жалким. Я не могу передать вам его слов. Я слишком слаб в библии, чтобы передать все, что говорил он, чтоб передать все кары, которые он призывал из рук Иеговы на головы двуногих зверей. Но если бы я был даже стенографом, я еще менее был бы в силах передать вам отчаяние и ненависть этого мятущегося под жалкой соломенной крышей, в Богом забытом, заброшенном местечке, никому неизвестного человека.
— Вы прокляты Богом, — кричал он мне в лицо. — Бог, проклиная и обрекая на погибель, отнимает у народа образ свой, свою божественную душу. У вас он отнял ее... Вы, как звери. Вы прокляты и обречены на погибель... Ха-ая, Хая!
Потом, под утро, измученный и ослабевший, после ужасной и долгой ночи, после бессильных проклятий, он рассказал мне, что было. Его жена и дети, сын подросток и Хая, дочь, лет двадцати, поехали в Гомель к родным. После погромной ночи, сына не нашли вовсе. Тело дочери, истерзанной, с проломленной головой, нашли под навесом, на соломе. Мать, после ужасов этой ночи, разбил паралич, и она лежит теперь пластом, и шепчет днями что-то невнятное, должно быть — имена детей, и плачет одним живым глазом.
Утром, чтоб дать последний мастерской удар кисти, рисующей звериные нравы, жизнь послала в домик раввина не кого иного, как господина сотского.
Я проснулся от громкого крика и ругани в сенях.
— Ты што, жидовска морда, безпашпортных ховаешь? Яких людей пирядерживаешь? Кажи, хто такий?
И, несмотря на протесты моего хозяина, в комнату ко мне ввалился здоровенный детина, с палкой в руке и с бляхой на груди. Он оказался знакомым, и поэтому шапка немедленно соскользнула с головы, и грозный блюститель порядка начал беспокойно топтаться у порога.
— Все-таки, ты зачем же скандалишь? Никаких прав врываться в дома и ругаться ты не имеешь...
— Милостивый барин! Каб я ведал... Бож-жа-ж мой! Врядник, становый — замучили чисто: велят каб за ими, за пархами, глядеть во як!
Он приставляет руку к глазу, точно смотрит в подзорную трубу.
— Закон! А по мне што! Хай, хто хоче, ночует... Бож-жа-ж мой!.. Да я...
Но хозяин мой не дает долго разговаривать либеральному блюстителю закона и спроваживает его.
А, спровадивши, говорит мне.
— Он знает меня тридцать лет. Ну, скажите. Придет он меня убивать палкой, когда ему скажут: бей жидов?
И я отвечаю себе:
«Да. Он сегодня будет бить жидов палкой. А завтра его жена будет прятаться в снегу, у могильного креста на кладбище; и мертвый ребенок будет утром лежать на ее руках, и смотреть ей в глаза невидящими глазами.
Потому что основой нашей жизни является звериная жестокость, или жестокое зверство, как кому угодно.
УТЕШЕНИЕ
Большая часть тех сорока семи лет, которые я прожил на свете, посвящена была изучению жизни с ее темной стороны. По мнению моих друзей, это была, таким образом, скверно прожитая жизнь. Но я с этим не согласен, потому что, именно благодаря моим мытарствам, я обладаю теперь тем талисманом, которого нет у моих друзей.
Этот талисман позволяет мне с полной ясностью духа переживать события, которые волнуют других, потому что, какая бы гроза надо мной ни разражалась, — я углубляюсь в прошедшее и нахожу, что все это уже было... Были и трус и град, и мор, и медные трубы. Были отчаяние и кровавые слезы, погибшие жизни и истерзанные души, — а мы все еще живы, и не только живы, но полны веры в грядущее.
Поэтому, когда надо мной собираются новые тучи и из темных углов жизни ползут и надвигаются на меня новые испытания, — я смеюсь им в лицо и кричу:
— Вы уже были, и я знаю ваше бессилье. Вы уйдете туда, откуда пришли, в ваши темные щели; мы же останемся жить, и жизнь будет наша!
Таков мой талисман.
Теперь, когда мне говорят, что я погибну под пятой либеральной строгости или строгого либерализма, — я, по обыкновению, делаю маленькую экскурсию в даль прожитых мною годов, попадаю, таким образом, в Обдорск и получаю оттуда мое утешение.
— Не погибну!
Не погибну, потому что уже погибал под ярмом либеральной строгости и остался цел, а ярмо сломалось.
В те далекие годы, когда я коротал мои дни в Обдорске, округом правил на правах «отдельного заседателя» белый ворон. Белым вороном мы его называли по той причине, что он один из всех властей предержащих не пьянствовал день и ночь.
Все, ведь, там было пьяно до потери человеческого образа: и молодой кудрявый батюшка, и старый сморщенный дьяк, и врач, которого все обегали, потому что боялись смерти, И письмоводитель полицейского управления, и надзиратели, и три купца, обиравшие самоедов и остяков, и самоеды, и остяки, погибавшие в паутине купцов... И над всем этим пьяным людом главенствовал белый ворон, трезвый отдельный заседатель, Портнягин.
Перерывая мои вещи, разглядывая мои альбомы, прочитывая пачку писем моей матери и любезно предлагая вывернуть карманы, вплоть до жилетных, он говорил мне.
— Как вы изволили только что приехать, то не знаете моих правил. Мое правило, первое, не пей водки и держи себя в аккурате на своем положении... Вот вы, к примеру, поднадзорный, значить — не должны никуда из города отлучаться, и меня должны уважать, потому что я здесь для надзора поставлен. Или, вот, я. Я должен за всем наблюдать и потому должен быть тверез, чтобы всем был пример... А второе мое правило — справедливость. Без закона — ни-ни! А что законом позволено, — делай, как хошь. Полная тебе свобода... Позвольте, а в этом отделеньице у вас что? Книги-с? И книги пожалуйте... Токвиль? «Старый порядок и революция?» Ну, уж нет-с. Я вам отдать не могу. Эту уж я губернатору предоставлю... Такое слово... Хоть я и «леберал».
И началась для меня обычная канитель. Письма прочитывались, и половина их вымарывалась. Токвиль арестовывался. Квартальный вламывался чуть не ночью в мою хибарку убедиться, — „не совершается ли чего-либо противозаконного» Рубли, которые я получать иногда из дому, совершали круговращение в кармане белого ворона прежде, чем попасть в мой. Все, как следует, одним словом. Но все это было сдобрено рассуждениями о законе, о правилах, о «либерализме»:
— Мое правило: ежели вы ничего, то и я ничего. Предоставляю вам полную свободу. Но ежели вы себе позволяете, то и я себе позволяю...
Конечно, я себе позволял... Мы все себе позволяли многое, недозволенное циркулярами, хотя это «многое» било на деле так мизерно и так ничтожно. Мы входили в общение с обывателями, мы уходили из «города», мы учили детей грамоте... Мы думать забыли в этом Богом проклятом, болотном городишке, о «пропаганде» и «революции». Но мы не могли и не хотели перестать быть людьми, и это постоянно сталкивало нас с циркулярами и либеральным блюстителем их, Портнягиным.
— Вы нарушаете законы-с. Я обязан усилить за вами надзор. Я вам не враг-с и даже сочувствую вам, ежели вы все по закону. Но как вы все нарушаете, то я неумолим.
И надзор усиливался. Это выражалось в том, что под окнами и дверями вечно торчали пьяные рожи наших «надзирателей», что стоило нам собраться двум-трем, как ввергался в совике и пимах пьяный мещанин, приставленный к нам, и бормотал:
— По какому праву?
Его выставляли за дверь, и отсюда возникало дело, приезжал следователь, и начиналась волокита, кончавшаяся клоповником.
Это была гнусная жизнь, полная бесславной, скучной борьбы за право жить, дышать, видеть деревья, лес, реку, за право есть, в буквальном смысле этого слова. Ведь всякая работа, приводившая нас в соприкосновение с людьми, воспрещалась. А так как все препоны сдабривались рассуждениями о «свободе в пределах закона», то мы вдвойне ненавидели нашего белого ворона и за притеснения и за его «лсберальное» ханжество. А ненависть плохой советник. Но окончательно повредила нам не она, а отставной офицер Боровко.
Боровко был «вроде как политический». Па самом деле он был «благородной души» офицер, слабый разумом и дерзкий характером. Характер этот созрел и развернулся в Польше, где стоял эскадрон Боровка. Это было после мятежа, т.-е. в такое время, когда «благородному русскому офицеру сам черт был не брат». И глупый Боровко безобразничал там, как хотел. Это сходило с рук, пока он не выкинул штуки над купцом-миллионером, поставщиком овса на эскадрон. Боровко заманил «жида» на эскадронный двор, привязал его к столбу, у которого чистят лошадей, и велел всем солдатам плевать ему в лицо. Это казалось невинной шуткой. Но полковник был в дружбе с поставщиком, и Боровка перевел на Кавказ.
Там он тоже дурил и пьянствовал и дебоширил и, наконец, додебоширился до настоящей уголовщины. «Армяшка», которому он был должен, вздумал срамить его на базаре. Боровко выстрелил и убил человека. За это его отчислили в запас. Это значило потерять общественное положение, — ведь работать он не умел. Поступил в полицию, — прогнали. В кондуктора, — прогнали. Спускаясь все ниже, он таскал кули в Баку, но больше пьянствовал. обыгрывая дураков в духанах, и дебоширил, дебоширил...
Кончилось тем, что пьяный, в участке, он побил полицейского, разбили зерцало и «говорил бранные слова» на Государя. За это его сослали административно на север, как государственного преступника.
В ссылке он был карой исправников и мучением для политических ссыльных. Жалкий, пропившийся, утерявший образ Божий, он скандальничал во всех городишках, куда его пересылали, и обивал пороги политических ссыльных. В больших городах свободные люди проходят мимо таких «бывших людей». Но в ссылке это сделать трудно. Трудно человеку угнетенному, выгнать на 50-градусный мороз полураздетого пьяницу; и ночует он у «товарища», и кормится, и сквернословить.
Но общение и общее имя создает круговую поруку. И невольная круговая порука связала нас с бывшим офицером, плевавшим в «жида», и стрелявшим в «армяшку».
— Еще называетесь образованные люди, — язвил нас Портнягин, — а выходит, что пьяный остяк ваших безобразиев постыдится! Иду сегодня от обедни, а Боровко, — Боже ты мой! — на кого похож! Отправил мерзавца в клоповник. А все: «прогресс»! «наука»! Срам!
Мы лишены были возможности провести между нами и Боровко демаркационную линию, — ведь титул у нас был общий. Он же день ото дня вел себя гнуснее и проявлял неистощимую изобретательность в деле оскорбления полиции; поэтому наш заседатель имел возможность ежемесячно писать губернатору, что «политические» ведут непотребный образ жизни, буйствуют, бьют городовых, развращают население и т. д. От губернатора шли приказы, грозней один другого, и каждое «наше» столкновение с Портнягиным, как бы корректно и разумно оно ни было, благодаря примеси «боровковщины», превращалось в возмутительный скандаль и влекло за собой арест на 7 суток, высылку в погосты из 3-х дворов, лишение «казенного пособия», и миллион тех мелких прижимок, которые во власти «власти» за полярным кругом.
Хорошо было мечтать об общем благе, о счастье народа, о свободе. Хорошо было чувствовать себя борцом за великое дело. Гордостью наполнялось юное сердце, получавшее право говорить:
«Иду дорогою свободной,
Куда влечет меня свободный ум».
Чистым и благородным гневом горела душа, когда в ней зрели решения, последствием которых был Обдорск.
Но отвратительно, до омерзения отвратительно было бродить потом долгие годы, лучшие годы юности, в грязи, созданной либерализмом Портнягина и бесчинством Боровко, долгие годы тратить силы на то, чтобы отстоять свою душу от разъедающей грязи мелких столкновений с мелкими, но в наших условиях, сильными людьми.
Как звери в клетке, с тоской и злобой, с унизительной скукой влачили мы дни за днями. Холодная пустыни окружала нас на тысячи верст вокруг. Вечная ночь повисла над нами. Голод и безделье грызли год за годом. И год за годом грыз и пилил нас наш либерально-строгий законник:
— Ежели бы вы по закону, как прилично образованным людям. Но вы от всего отреклись: от Бога и Государя, от приличной жизни. Вот, к примеру, ономнясь Боровко... Нет, никак вам невозможно давать свободу. Каждый день извольте являться в полицию...
Я не являюсь, и — протоколы, доносы, вторжения городовых без конца, без перерыва. Ни одного спокойного дня!
— Вы себе позволяете, и я себе позволяю! Товарищ Зотов сидел однажды за сапожным верстаком, сидел и резал подошву. Потом размахнулся и всадил себе нож в сердце.
Товарищ Шахов сошел с ума и в глухие, бесконечные ночи оглашал глухими, бесконечными воплями черные, кривые стены своей избы. Потом повесился. Другие — пили.
А ржавый голос трезвого заседателя пилил:
— Позвольте, как же мне вас отпустить в Лампожню? Еще скандал какой сделаете. Что ж, я и сам рюмку перед щами... Но чтоб, как Боровко...
Да! И весь этот страшный сон прошел. Давно лежат в мерзлой тундре мертвые кости наших мучителей. Дух же их всегда ведь был мертв, и скоро будут забыты их имена, если мы не увековечим их нашими письменами.
А мы, то великое собирательное целое, которое десятилетиями изнывало в мерзлых дебрях, проклятых людьми и Богом, мы живы, и, глядя на шумящие над головами черные тучи, мы оглядываемся на приобретенную нами страну, на наши великие завоевания. Они поистине велики и неотъемлемы. Пусть встанут из могил все черные тени минувшего, чтобы помочь черным теням настоящего: никогда не отнимут они у народа его проснувшейся мысли, его любви к свободе, свободного пути к свободной жизни, выстраданного им и нами.
Вы были. И ушли побежденные. И так же уйдете вновь в ваши черные щели. Я это знаю.
1-ое СВОЕВРЕМЕННОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
Видали вы когда-нибудь землю и море после хорошенькой бури?
На земле, где все крепко и прочно, где дома на каменных фундаментах, трубы сделаны из кирпича, деревья стоять, вцепившись в почву десятками крепких корней, — вы увидите ужасающий беспорядок. Дома без крыш. Иногда в развалинах. Деревья вверх корнями. Всюду сор. На берегу остатки кораблей, водоросли, тина, всякая морская дрянь.
А на море — только гладкие, круглые блестящее валы с косматой гривой на хребтах, и только кое где плавающие обломки. Пройдет день или другой. Обломки уйдут на дно, под поверхность коварной, изменнической стихии, и успокоенное море вновь блестит и сверкает, смеющееся и ясное, под лучами вечного солнца.
Другое дело на земле. Долго должны бродить там люди с метлами, лопатами и ломами, приводя в порядок, убирая руины и подметая сор. Долго должны они вновь строить и украшать изуродованное лицо матери-земли!..
Не надо поэтому удивляться тому, что пронесшаяся над нами общественная буря произвела наибольший беспорядок и оставила глубочайшие следы разрушения именно в умах сторонников порядка, в умах защитников неизменности государственных и социальных учреждений. Люди, строящие из камня, на веки, консервативные элементы общества, люди «порядка» — не могли не потерпеть всего более от налетевшего общественного шквала.
Коварная же и изменчивая среда «людей движения» с таким азартом отплясывавших свою революционную сарабанду под вой исторических ветров, — она, конечно еще волнуется и плещет о берега, — но завтра гладкая, нагло-бесстыдная, она вновь будет блистать всеми цветами радуги и спокойно отражать небо и солнце, — до новой бури!
Такова печальная судьба всего доброго и прочного. Оно обречено на страданье! Не будем, однако, унывать. Возьмем метлу и уберем сор. Прежде всего очистим берег от морской дряни, от гниющих водорослей, от тины, которую изменническая стихия выбросила на землю, где все должно быть прочно, крепко, чисто и здорово.
Возьмем метлу, и освободим умы людей порядка от тех зловредных гнилых идей, которые привила им пережитая нами революция. Едва ли это будет трудно, так как это — чуждые, наносные идеи.
К ним я причисляю, прежде всего, идею желательности «работоспособной» Думы.
Я понимал бы, если бы о работоспособной Думе вздыхали революционеры, те, которые хотят все изменить, все разрушить, все вновь перестроить, те, кто хочет вечно строить, вечно перестраивать, ломать и вновь воздвигать, словом — «люди движения». Для них государственное и социальное тело, это — какое-то реrреtuum mobilе, вечно вращающееся, изменяющееся, развивающееся выражение беспокойно и неустанно работающей человеческой мысли. Для них не существует прошлого, им не дороги заветы истории, им ненавистны неподвижные и прочные основы. С глазами, дико устремленными вперед, без устали, как волны изменчивого моря, рады они катиться к неведомым берегам, одетым завесой исторических туманов.
Да. Для них, для этих фантастов и безумцев, работоспособная Дума имеет значение. Оттого-то кадеты и хвастаются, будто они в своих комиссиях наделали столько проектов, подготовили столько законов, что от доброго старого здания нашей государственности не осталось даже какого-нибудь балаганчика, где бы мог преклонить свою голову огорченный патриот. Они — «работали!»
Но для тех, кто не охвачен безумной жаждой перемен, кто любить свой старый дом, свой славный старый дом, в котором он покойно и прочно жиль так долго, — не нужно работоспособной Думы. Уж если без Думы никак нельзя, то Дума нужна неработоспособная. Т.-е. такая, которая ничего не могла бы ни изменить, ни перестроить, ни переделать.
Лозунгом истинных друзей порядка, истинных консерваторов, тех, кто хотел бы уберечь дорогое нам отечество на основах, завещанных нам историей, кому дороги известные три кита, служащие опорой русской земле, кто желал бы, чтобы и наша социально-экономическая структура осталась неизменна, чтобы дворянин уважался, и в помещичьей усадьбе можно было бы отдохнуть в приятной беседе с милой хозяйкой за обильною трапезою, — лозунгом их должны являться два слова: «без перемен».
Без перемен. Все по-старому. Все как было.
Задача мудрого правительства только в том и заключается, чтобы блюсти установленный историей порядок, чтобы сохранять все в неизменности, чтобы наблюдать за неприкосновенностью исторических святынь.
Слава Богу, и в наши конституционные дни никакая реформа, никакая перемена не может быть совершена без согласия правительства. Слава Богу, наше правительство достаточно сильно, чтобы не допустить никаких реформ и перемен. Зачем же ему работоспособная Дума? Работа Думы, это — реформы. Зачем понадобились правительству реформы, т. е. изменения и перемены в веками установленном общественно-политическом строе.
Разве у нас нет опыта? Вспомним.
Была, ведь, у нас «эпоха великих реформ» — шестидесятые годы. Освободили крестьян, — и дали толчок «освободительным идеям», с которыми потом пришлось бороться всей силой, имевшейся у государства, и тем не менее уступить. В результате — «освободительное движение».
Наделили крестьян землей, — и создали прецедент для «принудительного отчуждения»!
Не даром в 80-е годы, когда здравые идеи пользовались временным престижем, весьма авторитетный голос объявил освобождение крестьян «печальной ошибкой».
А земства? Гонялись за содействием общества правительству, и вырастили себе врага, которого тридцать лет пришлось потом давить и жать и выжать из него земские съезды 1905 и 1906 годов!
Суд присяжных, суд совести? Не знали, куда уйти от этой совести, распутной совести распутного народа, и пришлось добрые старые послушные суды заменить полевой юстицией. Неужели стоило менять одно на другое?
Община? Ее насильственно насаждали. И не знают теперь, как стереть с лица земли...
Нужды сельскохозяйственной промышленности? Разве не из нее родились те уездные парламенты, с которых началась смута?
Наконец, 5 свобод и сама Дума. Разве не направлены теперь все усилия на то, чтобы парализовать неожиданные и непредвиденные последствия свобод и самого народного представительства?
Говорят, свободами злоупотребили! Злоупотребили! Хотел бы я знать, какое доброе употребление могли бы из них сделать? Нет, не злоупотребили, а применили, и зло проистекло не из порочности людей, а из самого существа свободы. Но такое же зло возникло и из освобождения крестьян, и из реформ судебной и земской, из защиты общины, и возникнет из ее упразднения.
Разве не следует отсюда, что зло возникает из реформы, как таковой? Реформа — ломка. Она объявляет отжившим и негодным тот или иной устой. Она ставит новые цели. А вечно ищущая мысль-разрушительница, подчиняясь данному реформой толчку, — идет дальше цели, намечает новые цели, требует новых реформ. Тогда кричать: злоупотребление!
А я отвечаю: соблазн! Соблазнили малых сих и хотите за это ввергнуть их в море. Но в писании сказано, что в морс подобает ввергнуться соблазнителю.
Не соблазняй. Не реформируй. Живи в старом доме. Смирно! Иначе утонешь в море, в изменчивой и коварной стихии революции.
У идей есть своя логика, и работоспособная Дума, работая над одной маленькой реформой за другой, перейдет неминуемо к большим, раскачает все основы, привьет гражданам вкусы, несоответственные целям прочного порядка.
И это безотносительно к тому, в каком направлении будет работать Дума. Пусть будет черносотенная Дума, пускай ломает и реформирует назад. Все дороги ведут в Рим, и по черной дорожке идут так же легко туда, где «стоят красные сапожки». Это должно помнить.
Дума должна быть, в интересах консервативных элементов, неработоспособной. Поэтому пусть она будет совещательной.
Пусть в Думу — «советницу» издать «совершаться» — статские, действительные статские, тайные и действительные тайные «советники». Пусть совещаются без конца и обо всем. Пусть противоречат и спорят сколько хотят.
Пусть Дума совещается в комиссиях, с Советом. Пусть совещаются «старейшие деятели» одни и с кабинетом. Совещайтесь как можно больше. Если можно, привлеките к совещаниям еще кого-нибудь. Чем больше — тем лучше; чем дольше — тем приятнее. Как встарь. В ваше лучшее время.
И мы будем спокойны, что из многих и долгих совещаний не родится действий, не проистечет реформ, опасных перемен, измен заветам. И наш старый славный дом, где так славно спалось нам, господам вчерашнего дня, будет долго еще служить нам приютом и давать душевную отраду.
Усвойте, друзья мои, этот мудрый строй мыслей. Иначе идеи, выкинутые на берег революционной бурей и подобранные вами, идеи о реформах, осуществляемых работоспособной Думой, приведут вас туда, куда приходило уж не одно консервативное правительство.
Разве во Франции не цвели белые лилии, и в Англии или Италии и даже в Австрии не было доконституционного периода?..
2-ое СВОЕВРЕМЕННОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
Я, думая, не мне одному надоел этот страшный беспорядок. И самое худшее в нем то, что ему не видно конца. Стоит прочитать один только нумер любой газеты, чтобы увидеть, что разговоры о «наступающем успокоении» совершенно праздные разговоры. Никакого успокоения нет, — и нет потому, что люди отравлены той прививкой «свободы», которую им сделали два года тому назад.
И вот, они ходят теперь, как бешеные, с глазами, мутными от злобы, и с пеною у рта ругают и кусают все, что можно и чего нельзя.
Осталось ли что-нибудь не поруганное и не осмеянное? Исторические традиции и заветы? Нравственные предписания? Религия? Государственность? Социальный порядок? Все втоптано в грязь, от всего остались одни лохмотья...
Так жить нельзя.
«Люди порядка» полагают, что немножко времени и немножко нагайки — и все придет, тоже понемножку, в порядок. Это — иллюзия. В лучшем случае болезнь скроется внутрь, притаится, как змея под розой, чтобы вернее нанести смертельную рану. В лучшем случае она уйдет в глубь социальной души, чтобы созреть там, выноситься там, и в удобную минуту с новой силой охватить социальное тело.
Либералы думают, или притворяются, что думают, будто ответственность министров, неприкосновенность личности, правовой строй и подобные выдумки прекраснодушных людей прекратят анархию. Но, мой Бог, тогда-то она и начнется!
— Мало! — скажут тогда все.
И так как либералы принуждены будут в ответ сделать галантную улыбку и запросить «общественное мнение» о том, чего же, собственно, оно желает еще, то все начнут кричать:
— Подавай того, подавай другого, переделаем это, переделаем то! — и не найдется такого волшебника, который указал бы равнодействующую всех противоречивых желаний.
А если бы такая равнодействующая и нашлась, — на ней никто не помирился бы. Всем нужны «реальные блага», а не математическая фикция, не какая-то арифметическая средняя.
Мало утешения принесла бы и победа демократии. Во-первых, аристократы были бы обижены, и буржуа негодовали бы. Во-вторых, демократ, — что такое демократия? Станьте в версте от леса, и он покажется вам однородной сине-зеленой массой. Но войдите в лес, и вы увидите, как высокие деревья глушат кусты и низкую поросль, как под кустами преют травы, как на свалившихся великанах растут грибы и губки. Нет, демократия не принесет нам мира. Борьба классов, борьба народов, борьба религий, борьба неверия с верой, социалисты, коммунисты, анархисты. Разве это не сплошная поножовщина? Мечтатели толкуют, что из этого хаоса есть выход, и что выход этот укажет разум.
Разум, говорят они, дает меру и цену вещам, отсекает крайности, утишает страсти, приводить мир и жизнь в равновесие. Но скажите, какая разница между этими мечтательными рационалистами и теми тривиальными эмпириками, вся философия которых исчерпывается поговоркой:
— Перемелется, —мука будет.
Я различия не вижу. И те и другие мелют и не видят, что жернова истории перетирают живое человеческое тело, и что из под камня бежит не мука, а кровь.
Пора противопоставить этой дряблой мысли, освещающей кровавую действительность, божественно-простую, как солнце ясную и, как хрусталь чистую идею, способную сделать жизнь сладкой, радостной и прекрасной. Пора договорить до конца то, что теперь невнятным лепетом сходить с уст людей порядка:
— Источник бедствий — разум. Он— отец свободы, свобода же — родить анархию.
Разобьем алтари ложных богов. Развенчаем самозванных властителей. Перестанем, наконец, приносить кровавые жертвы развратителю-разуму и волчице-свободе!
Каждое правильно составленное рассуждение, после введения ставит тезис, затем приводить доказательства, потом выводит заключение. Бывает и патетическая часть, — то отдельно, в виде большого алмаза, перед заключением, — то в виде алмазной пыли, покрывающей все части рассуждения.
Введение мы сделали, тезис поставили. Перейдем же к доказательствам, посыпав их патетической пылью.
Мы, конечно, могли бы сосредоточить свое внимание на том соображении, что разум есть око души, с помощью которого распознаются недостатки государственных и общественных учреждений, правителей и начальников, религий и нравственных учений, —что и служит к соблазну «малых сил». Мы могли бы далее сослаться на евангельское изречение: «аще соблазняет тебя глаз твой» и т. д.
Но не будет ли убедительнее, если мы обратимся не к умозрительным, а к эмпирическим доказательствам?
Еще деды наши, хотя они познавали истину только в прообразах и иносказаниях, утверждали, что ученье — тьма, а неученье —свет. Почему и сами своих детей учили малому и народ, отданный их попечению, держали в невежестве.
Этой же системы придерживались и все благомыслящие государственные люди до самого последнего времени. Вспомним из стариков хотя бы кн. Голицына, Шишкова, Аскоченского, Фотия. Из новых — гр. Д. Толстого, Победоносцева. Вот почему и в школах и в университетах знание, это «необходимое зло», сообщалось в умеренных дозах, правила же нравственности и доброго поведения — аd lіbіtum!
Вот почему воздвигли стены и барьеры против орудий мысли, — против книг, журналов и газет. Уж если нельзя их уничтожить совсем, то пусть, по пути к человеческим умам, они хотя сломают себе ноги на барьерах и пробьют лбы о стены!
И был поэтому в нашей стране относительный покой и порядок, относительное подчинение и благополучие.
Считаю, таким образом, мой тезис доказанным.
Целые поколения наших предков и наших государственных деятелей вели неустанную борьбу с разумом и его разрушительной деятельностью, потому что считали его вредной силой. Пожелаем ли быть умнее отцов наших?!
Однако, должно признать, что вся эта похвальная деятельность не принесла желанных результатов.
Дух анализа, дух критики и осуждения проникал, как тайный яд, как тонкий газ, через все преграды; разрушал все брони; въедался в умы и души; будил в первых жажду улучшений, во вторых жажду свободы. Отсюда — это сплошное отрицание всего, чем крепко было до сих пор наше общество и наше государство; отсюда — дух бунта; отсюда, наконец, — та дерзость, с которой ныне всякое ничтожество судит обо всем в мире. Любой мужик, любой слесарь мечтает теперь, как известно, о социальных переворотах!
Не удивительно, что благомыслящие деятели ведут в наши дни отчаянную борьбу с этим бедственным состоянием умов. Ремонтируют старые барьеры, спешно возводят новые, невиданные, грандиозные, как башня вавилонская.
Увы, — мы должны сознаться, что и их усилия окажутся бесплодными. Злобные внушения разума, как ржа, источат железо; с почвенными водами просочатся под стенами; на крыльях ветра пронесутся над нами. Гарантированы ли мы, наконец, что среди каменщиков нет предателей, среди землекопов и инженеров — нет изменников?
С грустью жду я крушения всех надежд и расчетов благородных строителей стены, которая должна оградить «наш добрый и славный народ» от духа времени. Тем более, что, говоря откровенно, народ давно не добр...
Итак, цели благородны, замысел верен, — средства негодны.
Перед нами задача: найти вернодействующие средства...
Я полагаю, что нет удара губительнее того, который нанесен мечом, отточенным на нас врагом нашим.
Вырвем меч этот из рук разума и нанесем ему губительный удар!
Наукой установлено, что седалищем разума являются поверхностные слои большого мозга, — органа, необходимого для мышления, но совершенно ненужного для покойной, добродетельной жизни, для работы и размножения.
Делали опыты; вырезали целиком большие полушария голубю. Он жил прекрасно, твердо «сидел на своем шестке», ел, когда ему давали пищу, и летал, когда его бросали в воздух. Он, правда, совсем был лишен воли, и в этом есть неудобство. Нельзя каждого мужика кормить из ложки и ставить на работу.
Было бы целесообразнее поэтому вырезать у людей не весь большой мозг, а те его части, где протекает процесс ассоциации идей, сближений, сравнений, а следовательно, и осуждений. Психомоторные центры должно оставить. Нужно внести только такое разрушение в мозговую кору, которое сделало бы невозможным отвлеченное мышление, деятельность критицизирующего разума.
Вот благородная задача для благомыслящих людей науки и хирургического искусства. Умственная кастрация!
Вот средство радикального решения задачи, над которой безуспешно бьются тысячи благомыслящих граждан и сотни патриотически мыслящих государственных людей.
Нельзя лишить власти над людьми дух времени. Дух есть дух и пребывает там, «где хочет», — конечно, пока он жив.
Но убить дух можно, и вместе с тем умрет и дух времени, дух свободы, неповиновения, неумеренных желаний, жажды реформ и перемен, — все, что носить собирательное имя революции.
А если это можно сделать, то и должно.
Как усовершенствовалась бы и изменилась тогда наша жизнь! Дело представляется мне в таком виде:
Сто сорок тысяч благороднейших семейств, застрахованных самым положением своим, — привилегированным положением, — от жажды перемен и от духа критики, — зачем критиковать прекрасное?.. — господствовали бы над страной, и обладали бы неурезанной способностью понимать.
Сто сорок миллионов, получив низшее техническое образование и технические навыки, примерно в двенадцатилетнем возрасте, иногда позднее, в зависимости от момента пробуждения к деятельности высших функций мозга, подвергались бы «мозговому обрезанию», и продолжали бы жизнь в виде скромных, послушных и трудолюбивых поселян — землепашцев, рачительных ремесленников и свободных от неумеренных желаний фабрично-заводских рабочих.
Прекратились бы общественный волнения; сделались бы невозможными революции; излишними законы о равноправии, о конституции; умолкли бы требования министерской ответственности. Никто не критиковал бы правительство. Никто не замышлял бы социальных переворотов. В деревнях молчали бы о земле, на фабриках о 8-часовом рабочем дне. Исчезли бы сектанты, и евреи не кричали бы о черте оседлости. Не нужно было бы положения об охранах, и сделались бы излишними военные суды. Ни экспроприаций, ни стачек, ни той нескончаемой гражданской войны, которая разрушает богатства страны, накопленные трудами поколений.
Скромно и послушно паслось бы на земле двуногое стадо умственных меринов, — работая, когда приказано, мирно предаваясь дозволенным радостям, когда это соответствует видам начальства. А в остальное время — покойно отдыхая от трудов и от радостей.
А над ними сто сорок тысяч благородных семей-властителей жили бы на утешение себе и на славу любезному отечеству. Какая это была бы божественная жизнь! Спокойная и счастливая, уверенная в завтрашнем дне и обеспеченная!..
Быть может, конечно, организация труда ста сорока миллионного стада потребовала бы усиленных забот. Но и заботы эти давали бы чувство удовлетворения, так как послушное стадо работало бы исправно и беспрекословно исполняло бы предписанное. Возрастали бы богатства, повышалась культура, и мечта о сверхчеловеке была бы, быть может, близка к осуществлению.
Новый тип радостного, могучего и утонченного человека появился бы на земле, благодаря трудам спокойных, довольных, нетребовательных и сытых оперированных рабов.
Нам остается рассмотреть один вопросы осуществим ли этот план?
На первый взгляд может казаться, что не осуществим. 140 миллионов могут отказаться. Могут пожелать сохранить в неприкосновенности свой орган мысли. Могут оказать сопротивление операторам.
Но, Боже мой! мало ли чего люди не хотят делать — и делают. Мало ли чем дорожат они — и чем принуждены поступиться? И если свобода слова, свобода собраний, так называемые конституционные права личности, как это показывает опыт, — отьемлемы, то почему должно считать неотъемлемой способность мыслить? Потому, что она не может быть взята без физического принуждения в теснейшем смысле слова, без помощи хирургического ножа? Но, право, без него, как свидетельствует тот же опыт, не может быть осуществлена и не осуществляется ни одна спасительная реформа.
Итак, наш план на пути своего осуществлены встретит не больше трудностей, чем любое спасительное мероприятие, практикуемое ныне. В сочувствии привилегированной части населения можно не сомневаться. Но если так, то зачем остановка?
Единственно за способностью к решительным действиям. Все привыкли тянуть и мямлить, засчитывая, что как-нибудь все сделается само, все само собою устроится. Робость ленивых, косность трусов, боязнь «общественного мнения», — и потому ничего, кроме половинчатых мер, кроме ничего не достигающих, но способных всех раздражать угроз, уколов мелких ран...
Разве так поступают богатыри мысли и дела?
Они бросают в мире ясные, откровенные и простые лозунги. Они провозглашают открыто, на площади:
— Да здравствует рабство, единственный устой порядка!
— Да погибнет разум, — разрушитель и развратитель!
И затем следуют этим лозунгам твердо и прямолинейно.
Друзья мои! С грустью свидетельствую, что не вижу в современниках моих такой готовности. Маленькие люди!
Но не теряйте надежды. «Они подрастут». И так как они сказали «а», то скажут и «z».
Какая прекрасная жизнь потечет тогда по земле...
Ну, а если у них не хватит смелости мысли и решительности дел?
Тогда... Тогда, увы, они погибнуть. Все мелкое погибает. И это будет очень грустно. Так что даже камни заплачут. Не правда ли?
3-ое СВОЕВРЕМЕННОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
В моем втором «Своевременном размышлении» я привел соображения, доказывающие, что общественный порядок не может быть восстановлен, пока общественное стадо не будет лишено способности рассуждать, и не будет обращено в естественное и благое рабство.
К сожалению, достаточно решительных шагов в этом направлении до сих пор не сделано, и человеческое стадо стоит доныне в темной и грязной долине у подножья Олимпа, мычит, шумит и кричит вверх:
— Реформы! Свобода!
Правда, кричать не все. Многие молчать; но зато думают. Я доказал уже, что это — почти одно и тоже. Тот, кто сегодня думает, завтра, наверное, закричит...
В древние времена Олимп отвечал на дерзновенные вопли смертных громами из туч.
Теперь этот гром гремит из «России».
Нас спрашивают, пишет почтенная газета, отчего молчим мы о реформах? Но с кем говорить? С теми немногими, кто стоит на одной линии с нами, напр., с советом объединенного дворянства и еще кое с кем, — мы все переговорили в наших гостиных и кабинетах. А с вами, — при этом «Россия» делает сардоническую мину, — научитесь прилично вести себя, — тогда, быть может, будут говорить и с вами. Теперь же вы умеете только скандалить. Вы скандалили в одной и другой Думе, скандалите в той тине, в которую вас завела ваша глупость, и мы поэтому с вами не говорим, — особенно о реформах!
Вы видите, — «Россия» не согласна с гр. Л. Толстым. Толстой полагает, что скандалы делает ничтожное меньшинство. С одной стороны, беспутники, сбитые с толку революционерами, с другой — те, кто за этими беспутниками не видит великого, спокойного народа, в великом спокойствии совершающего свое дело — великий и спокойный труд.
Это красиво. Но и неверно. И мы с «Россией» знаем дело лучше. Конечно, народ трудится. Но вместе с тем он галдит и думает. Не очень хорошо, не очень много думает, но все-таки... Поэтому, как полагает олимпийская газета, с ним и нечего толковать. Достаточно его обуздать.
Поэтому, как полагаю я... я полагаю, что человеческое стадо не в состоянии придумать чего-нибудь нового. Оно только в тысячу первый раз повторить старую историю.
Не знаю, случилась ли она ранее. Но давно, очень давно, человеческое стадо так же ревело около Олимпа, так же швыряло на священную вершину грязью, лезло через пропасти, с камня на камень, срываясь в ущелья и погибая под ударами божественных молний.
Это было тогда, когда Прометей, укравший для людей частицу божественного огня, зажег в их диких умах пламя мысли и в их зверином сердце огонь свободы и смелых желаний.
Точно так же, как и теперь, пламенел тогда Олимп яркими молниями. Удары грома, удары скал, рушившихся на дерзких смертных, отбили их свирепый, но нестройный натиск. Вор-Прометей был прикован цепью к горам Кавказа, и Олимп оделся тучею презрительного молчания о... реформах.
Все было кончено, все вновь пришло как будто в старый порядок. Но на беду у человеческого племени осталась искра от вспыхнувшего огня. Божественная по своей природе, она, благодаря несовершенству человеческого ума, разгорелась в огонь лжеучений.
У Олимпа были, как известно, плохие соседи. Завистливыми главами смотрели на него с востока сладострастная Астарта и хищный Ваал. С юга, таинственно мерцая мистическими очами, глядела на него Изида, богиня ночи. И суровый Иегова говорил с Синая; «Аз есмь един...»
Все эти голоса жадно воспринимало человеческое стадо, обиженное Олимпом, и ударялось в лжеучения.
Иные же говорили:
— Боже мой, как их много! И как это скучно, и как неудобно... Все грозят, все требуют себе и повиновения. Давайте, друзья, уйдем от них...
И тогда началось на Олимпе то, что Гейне назвал «Сумерками богов». Серые и мутные висели они над священной горой, и обескураженные олимпийцы уныло бродили в охватывавшей их все теснее мгле забвения и человеческого равнодушия. А человеческое стадо весело брело к ложным богам и туда, куда его звали скептики...
Это был полнейший беспорядок, и вот тогда-то и сложилась олимпийская пословица: «порядок прежде всего».
Тысячу раз повторялась потом эта старая история. И всегда в одних и тех же формах, — точно и боги, и смертные бессильны были придумать что-нибудь новое. Только все больше ликующего, насмешливого веселья — в нестройных кликах толп, разбегающихся от священных алтарей к капищам ложных богов.
Пусть сверху падают убийственные молнии, пусть грозно рокочет гром, — ему навстречу все равно несется смех.
Наблюдая их, богобоязненные старушки охают.
— Светопреставление, батюшка, светопреставление!.. Кончание миру.
Грингмут вопит:
— Искоренить крамолу!
А «Россия» облекается в тогу убийственного презрения. Точно чрезвычайно гордая провинциальная девица, она сентенциозно заявляет:
— Оставьте, пожалуйста! Даже говорить с вами не желаю!
О, Господи! Неужели приговоры испуганных старушек, юродивых, и разборчивых невест способны остановить течение жизни!
Могучая, неотвратимая, как судьба, жизнь развенчивает все мнимые величия, ломает ходули и издевается над теми, кто хочет, наперекор ей, властвовать над нею. Поэтому и говорил я: убейте в корне духовную жизнь народа, введите «обрезание мозга»!
Но если это неудобно, есть и другое средство устроить свою судьбу в этом спешащем к геене мире.
Это — уйти от мира. От нашего испорченного мира: отрясти прах его от ног своих.
Пусть развращенное, распущенное людское стадо перегрызает друг другу горло, пусть зубоскалить на краю помойной ямы. Есть о чем заботиться «благородному» человеку! Мало ли в далеком море «счастливых островов»? — спрашивает Ницше. В самом деле, разве мало на свете прекрасных мест, где человек, желающий жить по старине, мог бы устроиться прекрасно? Их много. И если бы я был одним из тех, на ком теперь лежит сокрушительное бремя, с опасностью жизни, не зная покоя ни днем, ни ночью, устанавливать порядок в мире, ставшем вверх ногами, — я плюнул бы и сказал:
— Черт с вами, друзья мои. Грызитесь. Весь прекрасный мир ждал бы меня и открывал свои объятья. Но я избрал бы... Яву, золотую Яву, жемчужину Зондских островов.
Впрочем я в выборе не стесняю. Кто считает Яву глухой провинцией, может выбрать парижские бульвары, веселую Вену, рулетку Монте-Карло.
— Каждому — по его прихотям и вкусам! Так может быть переделана для сильных и богатых известная социалистическая формула.
Но я выбираю Яву. Там сочеталось множество условий, делающих жизнь приятной: нравы, правительство, природа, — все благоприятствует разумной, справедливой и счастливой жизни.
Начать с правительства. Голландцами там установлен либеральный режим. Это удобно, это очень удобно. Подумайте только, как плохо живется теперь при «сильной власти» какому-нибудь г. Лопухину или его beau-frère’y. Было время, г. Лопухин свирепствовал в своем департаменте полиции, ловил, сажал, разгонял собрания и съезды, уловлял крамолу. Теперь он сам — крамольник, ходит по улицам только сумерками, прижимаясь к стене домов и трепещет перед частным приставом. Легко ли это?
А под управлением либеральной голландской власти он носил бы весело свою голову, независимо от того, кто он в самом деле: гнусный либерал времен «Святополка-окаянного», или доблестный сподвижник самого фон Плеве?
Второе, — на Яве можно завести себе рабов, бронзовых малайцев, послушных, сметливых и ловких.
Я управлял бы ими патриархально, без помощи законов, кого хотел бы миловал, кого хотел — казнил. И что бы я ни делал, — они поэтому славили бы меня, мою мудрость и великодушие.
И, наконец, природа! Райский уголок, лучший в мире. В роще мирт и магнолий построил бы я замок, легкий и прекрасный, как мечта, и, окруженный тысячами моих рабов послушных, я лежал бы в гамаке и насмешливо смотрел бы на гнусную Европу, с ее социализмом, конституционализмом и остальными выдумками упадочного века.
— Задыхайтесь в ваших проклятых каменных городах, гните спину на фабриках, в дыму и копоти, занимайтесь политикой, свергайте министров и укрощайте бунт и революцию, — черт с вами. — Так говорил бы я.
— Я лежу под своей магнолией, на моей прекрасной Яве. Прелестные рабыни услаждают мои взоры легкими танцами. Бронзовые рабы охраняют мой покой. Замороженный ананас веселит мою душу. И я смеюсь над вами, проклятые! Ха-ха-ха-ха!
Переставая чувствовать себя обитателем Ямы и обладателем тысяч рабов, — я спрашиваю себя: а что бы стали чувствовать мы, подлые людишки с подножия Олимпа?
Мы, — едва донесся бы до нас смех с острова Явы, мы, я уверен, ответили бы ему восторженными кликами.
— Вы довольны? И мы тоже! Ха-ха-ха-ха!
И воцарилось бы на земле веселье, смех, божественный смех звучал бы от полюса до полюса, носился бы над морями и над землями, — и я надеюсь, что даже шипящий Меньшиков, который на Яве был бы у меня смотрителем моих рабов, первый раз в жизни смеялся бы счастливым смехом ребенка.
И было бы всем «добро зѣло». Не правда ли?
ПОБЕЖДЕННЫЕ
Теперь, когда минули дни пережитых нами бурь, когда все пустые барабаны, натянутые ослиной кожей трещат о победе и о конечном поражении врагов, я задаюсь вопросом:
— Кто же побежденный?
Ведь в этом все дело. По-видимому, победило то серое и благоразумное, злое и хищное, что недавно, в дни бурь, сидело попрятавшись по щелям.
Оно сидело там, испуганное, и караулило. Оно знало, что вырвавшиеся на свободу рабы не сумеют «организовать победу». Что они запутаются в обрывках старых пут, в петлях новых фантазий. И потому ждало своего часа, как паук ждет свою муху, — и когда этот час пришел, оно взяло барабан и трубу и огласило весь мир старым, дедовским «Гром победы раздавайся», а кстати ущемило ослабевшего врага, вытянуло из него жилы и содрало кожу.
По старому правилу: Горе побежденным!
Но для меня, стороннего наблюдателя, здесь подозрительно одно: хороший это, дедовский гимн — «Гром победы раздавайся», и часто видел я седых стариков с крашенными усами, в ковровых халатах, стоптанных сафьянных туфлях, засыпанной табачным пеплом грудью. Это они любят в хмурые осенние дни бродить из угла в угол и хриплым баском распевать: «Гром победы...»
Но, Боже мой, когда же это было, чтобы дряхлое, седое, шлепающее туфлями действительно побеждало?! Всегда оно было в побитом поле, потому что победа — это цвет жизни, а цветет только юность.
Горькой насмешкой всегда звучало для меня торжественное «Веселися храбрый росс!» Какое там веселье, когда дни сочтены и неизвестно, кто дольше будет жить — сам «веселящийся» или его стоптанная сафьянная туфля?
Поэтому и теперь, когда я слышу о победах и весельи россов, когда все пустые трубы протрубили мне об этом уши, — я плохо верю, и думаю:
— Бедняга! И усы крашеные, и вата лезет из старого халата, и курит он «Жукова», — того самого, чья фабрика закрыта пятьдесят лет тому назад... Скоро, скоро тебе в могилку, старый, «веселящийся», бутафорский росс.
И разве свидетельствуют вытянутые жилы о его силе? И разве трудно прищемить ротозею дверями палец? Не только крашеный, но и злой старикашка, дрянной и старый злец, — только и всего.
Но победа, — в чем должно ее видеть?
Марков 2-ой и Дубровин уверяют, будто она в том, что опять все восстановлено. Реставрация! Но рсставрация, это — всегда только крашеные усы, а иногда и того хуже.
Я помню, во времена моего детства у нас в доме был знаменитый саксонский сервиз. Он был сделан на королевской саксонской фабрике, говорят, во времена Станислава-Августа, для самого короля. И потому на днище чайника, чашек и блюдец, рядом с синим значком, стояла корона. Потом из этого сервиза пил последний польский король Станислав Понятовский. Потом мой прадед, шамбелян польского двора, увез его в свой маентек, и там он сто лет стоял на полке, лишь по торжественным дням совершая «большой выход» на парадный обеденный стол. И тогда все любовались тем, как храбрый рыцарь со страусовым пером и шпагой обнимает круглым жестом желтую даму в фижмах, с волосами, зачесанными на уши, — совсем как у присяжных посетительниц Художественного театра. Он обнимает ее страстно, а дама сидит и смотрит вдаль на жнецов с таким невинным видом, будто собираются целовать не ее, а тот старый дуб, что шумит ветвями над нею и над тощею левреткой, с одной нелепо поджатою ногой.
Настоящий королевский сервиз!
Берегли его ужасно, но проклятое время и грубые люди делали свое дело, и чашка за чашкой, и молочник, и сахарница, все понемногу шло к тому концу, куда идут не только вещи, но и храбрые россы. И остался, наконец, один чайник. Великолепный королевский чайник. Один из всего сервиза. Двухсотлетний. Наследие двух королевских домов.
Старая Луиза Карловна берегла его, как дитя родное. Дрожащими руками сама мыла его, вынимала и ставила на верхнюю полку буфета. И каждый раз любовалась на желтую даму и тяжко вздыхала, — ах, только на старых королевских чайниках любовь так заманчива и невинна.
И вот однажды случилось несчастье. Брат мой изображал степного мустанга, а я индейского воина, — и старый королевский чайник полетел из дрожащих старых рук Луизы Карловны, и разбился.
Нас поставили в угол. И Луиза Карловна больно драла меня за уши. Не знаю, что жалела она больше, — королевскую ли корону, гордость нашего дома, или ту левреточную идиллию, от которой дрожало девье сердце. Но она плакала и кричала: Abscheuliche Kinder! Was nabt ihr gemacht, Halunken! Nna!
И при этом слезы лились из ее глаз и пальцы завинчивали мое ухо.
Я, конечно, был и виноват, и побежден, и наказан. Я был морально уничтожен. Но и чайник был разбить!
Он лежал в черепках на грязном полу. Он, береженный и лелеянный, видевший в лицо королей двух домов, заставлявший трепетать сердца принцесс, — они ведь тоже любили левреток, — он лежал под пятой буйного мустанга, размечтавшегося о вольной жизни в прериях дальнего Запада.
Что было делать?
Маnn muss іhn rераrіеrеn, — решила Луиза Карловна. И вот, мы подобрали все черепки, — ах, не все! так как кое-что провалилось в щели, кое-что рассыпалось мелким прахом. Потом начали клеить. Сколько вечеров просидела Луиза Карловна с очками на носу, смазывая черепки яичным белком, молоком, прилаживая ручку и отбитый носик! Все было напрасно. Тогда позвали кузнеца Евдокима. Он долго презрительно вертел черепки и ворчал:
— Нестоящее дело. Помилуйте, за полтинник в любой лавке, — новый-с! А тут!.. Да я четверку коней на четыре ноги скорее подкую-с. Дозвольте не брать...
Но Луиза Карловна была неумолима. Она жить не могла без желтой дамы и рыцаря со шпагой, без короны и сознания, что пьет из чайника королей двух династий.
— Право слово. Нестоящее дело... Но она была неумолима.
И чайник ушел с Евдокимом. Что он с ним делал, я не знаю. Ковырял и заливал, и сверлил, и опять заливал, — и, наконец, принес. Весь в свинцовых заплатах, сшитый проволокой, с свинцовой заклепкой па лице желтой дамы, — он был реставрирован!
Долго смотрела на эту реставрацию Луиза Карловна и вдруг повернула ко мне яростное лицо и прошипела:
— Abscheulicher Knabe! И решительным жестом сунула реликвию в шкап.
Потом оказалось, что он течет сквозь заклепки. Тогда его унесли в темную кладовую. И, кто знает? — Может быть, он и теперь валяется там вместе с железным ломом и старыми бутылками; он — реставрированный!
Прошел. Безвозвратно прошел век рыцарей и левреток, и дам с начесами. Его нельзя реставрировать. И сколько бы ни одевались «художественные» дамы в стиле тех милых времен, когда мой прадед — шамбелян скользил в туфлях с пряжками и в парике по залам варшавского дворца, — это будет только реставрированный чайник со свинцовыми заклепками и крашеные усы. Душа — иная. И сколько бы гг. Дубровины и Марковы ни трубили в трубы, сколько бы ни кричали на административных перекрестках о победном веселии россов, — век тайных советников, век дворян, и всеобщего холопства прошел навсегда.
Властно веет над землею, — веет «где хочет» — тот мощный дух, который поднял волны, сдвинувшие русскую землю с трех ее основ. Я думаю, что и основы эти, — мифические три кита, сползли со своих трех столбов и плещутся теперь в волнах вчера бушевавшего моря. В пользу этого есть много данных. Указать хотя бы на старообрядческую комиссию. Подумайте, — кого призывал к братскому и дружескому общению епископ Митрофан? Тех, кто был бит в доброе старое время дубьем, потом рублем, и, наконец, Соловецким монастырем! Кого еще вчера мог вконец изобидеть любой старательный миссионер.
Кого хотят сделать собственником, опорою порядка? Ту «святую скотину», для которой только вчера считали необходимым патронаж недорослей из дворян, — земских начальников!
В чем видят сущность гражданской свободы? В неприкосновенности «личности», которую «всемерно и всецело» обезличивали и стирали десятки и сотни лет.
Вы скажете: это слова! Нет, это не слова, так как в дела их превратить тот народившийся уже, нарождающийся сегодня, и имеющий родиться завтра сильный хозяйственный мужик, от которого, как от судьбы, не уйдешь.
Кто же победитель и кто побежденный?
— Я победительница, — говорить грязная раструхлая льдина, взломанная вешней водой, плывя по течению исторической реки.
Кто этому поверит?
— «Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс!»
Но крашеные усы, расползающийся халат и стоптанные старые туфли — свидетельствуют о тусклом конце прожитой жизни, о близкой могиле.
А молодая жизнь, послушная велению поэта, играет у гробового входа. И будет играть — вечно!
/Бѣлоруссовъ. Въ Старомъ Домѣ. Разсказы. Воспоминанія. Размышленія. Москва. 1908. 228 с./

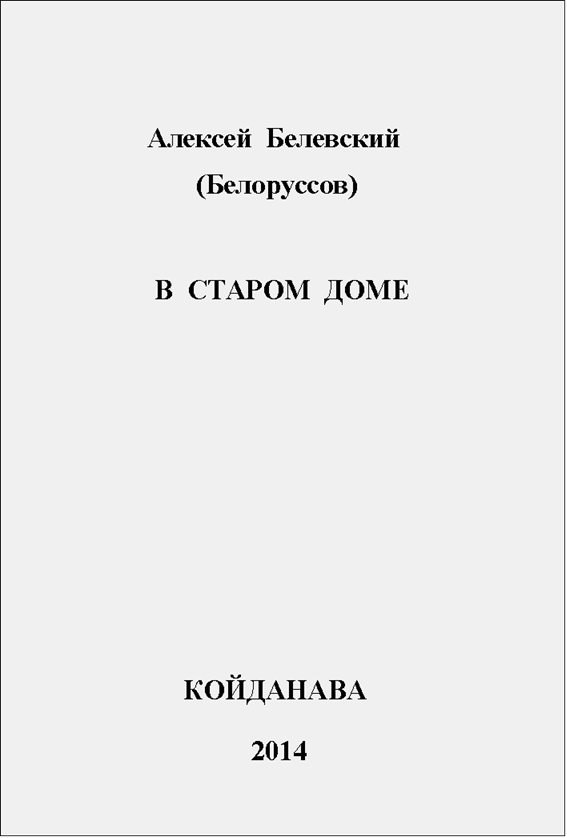



.png)
.png)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz