До сих пор в Республике Саха (Якутия) т.н. вооруженный «Романовский
протест», совершенный в феврале - марте 1904 г. группой сосланных БУНДовцев и
примкнувшим к ним нескольких боевиков из других партий, признается великим
достижением российского пролетариата, осуществленном против ненавистного
царского режима. Это все равно, если бы «химики», аналог современных
ссыльнопоселенцев, взяли бы, под дулом пистолета, да отхлестали по щекам
президента РС(Я), за то что он их не расселяет в Якутске, а сам нарушает
правила «Аэрофлота» да погоняли бы с ножами Ил Тумен. В конечном счете «ненавистный
боязливый царский режим» обошелся с террористами «Романовцами», можно сказать по-человечески,
а вот в 1937 г. их любимое «милосердное коммунистическое правительство» гнилостно
не либеральничая, поставило оставшихся в живых, не успевших выехать из СССР,
«романовцев» к стенке, и банально расстреляло. Кстати трезвомыслящая якутская
ссылка также не поддержала «БУНДовский шабаш», не говоря уже о якутском
населении, которому было непонятно за что стреляются между собой «нючи» и
«зиды». См. книгу: Н. А. Виташевскій. Старая и новая
якутская ссылка. Изданіе Э. К. Пекарскаго. С. Петербург. 1907. 42 с.
Пралеткульта Лясьвэгас,
Койданава
/Якутский архив. №
1. Якутск. 2001. С. 53-54./
Г. Лурье.
ИЗ ДНЕВНИКА «РОМАНОВЦА»
I.
Прощание.
Движение, волнение, тихий шепот и громкие разговоры.
Делаются последние приготовления и отдаются последние распоряжения тем, которые
нас скоро покинут, может быть, навсегда...
Добрая духоборка, пришедшая сюда из жаркого
Кавказа со своим мужем, отказавшимся служить в армии из религиозных побуждений,
сильно привязалась к своим «хозяевам»-политикам, которые жили в этом доме, ныне
превращающемся в укрепленный форт. С утра здесь царил какой-то особый подъем,
приходили все новые люди, кипятились, спорили, к чему-то готовились. Но наша
духоборка не смущалась и даже не особенно удивлялась: она уже привыкла к тому,
чтобы этот дом четырех политических временно превращался не то в товарищескую
гостиницу, не то в клуб.
Она старательно с признательной улыбкой
подбрасывает в самовар углей, уносит и снова приносит его, чтобы отогреть
приходящих с морозу товарищей. И вдруг — к ней подходят и говорят, что ей надо
отсюда уйти. Она как-то сразу связывает это странное заявление с тем, что вот с
утра втаскивали какие-то доски, проволоку, гвозди, что-то где-то вбивали. Она
почуяла что-то недоброе и смущенно удаляется.
А в разных комнатах и углах дома происходит
торопливое прощание — с мужем, с другом, с близким товарищем. Пожимают руки, целуются,
долго и отрывисто смотрят — в последний раз — и уходят. Забирают письма, написанные
на всякий случай, к старой матери, к близкому приятелю. Стараются вспомнить,
все ли сказано, не забыли ли чего, сообщили ли адрес, который может понадобиться
для извещения...
Вот наша «резервистка»: ее решено оставить
«на воле» для связи, для разведки, для помощи. Вчера вечером её пришлось удалить
чуть ли не силой: она предпочитала совместную открытую встречу с врагом
плечо-о-плечо с другими товарищами, с близкими. Убеждения не помогали; только окрик
«начальства» и напоминание о принятом решении и беспрекословном подчинении
возымели действие. Сегодня она уже вся — олицетворение послушания, принимает
распоряжения и уходит.
Вот девочки болтают с отцом, они спешат
наговориться; старшая торопит: надо уходить. Жена прощается с мужем; она
завидует «Голдочке», которая тут остается с мужем, будет делить с ним горе и радость
борьбы, помогать ему в тяжелую минуту, а, может быть, обратно...
— Уходите, уходите, — торопит «начальство».
Последние обрывки фраз:
— Не забудь адреса мамы!..
— Поцелуй Ваську!
— Он живет в Киренском уезде...
— Пришли
записочку!..
В углу, у окна, кто-то вытащил золотую
десятирублевку и передает уходящей приятельнице:
— В случае чего, отошлите организации...
II.
Разочарование.
18-го февраля, часа три пополудни. На
Романовrе наступило то настроение полуутомления, которое
приходит часто после пережитого высокого подъема и крайнего нервного
напряжения. Уже несколько часов ждали мы нападения, а оно не пришло. Когда
часов в одиннадцать утра мы послали свое заявление губернатору, что мы не уйдем
из Якутска и не остановимся перед самыми крайними мерами, мы думали, что нам
придется прибегнуть к этим мерам скоро, сейчас. Мы думали, что мы немедленно
подвергнемся нападению дикой орды: перед глазами вставала картина 1889 года...
А на нас никто не нападал. У окон стояли и
сидели наши часовые. Одни с нервным напряжением, другие совершенно спокойно
всматривались в убегающие вдоль улицы тени и внимательно следили, нет ли
признаков наступления. Я был вестовым; снабженный свистком, ходил я по всем
комнатам, приближаясь то к одному, то к другому часовому и справляясь, нет ли
каких-либо тревожных предзнаменований. По приказу нашего начальства, часовой,
заметивший что-либо неладное, не смеет об этом сообщить никому, кроме
вестового.
Вот уже около часу, как я исполняю свои
обязанности. На улице тихо, от часовых получаются спокойные вести. На Романовке
постепенно водворяется полумирное настроение. Подъем сменяется буднями.
Пообедали, кое-кто кончает кушать, дежурные моют посуду...
Вдруг — свисток: это я дал тревожный сигнал
по приказу нашего «диктатора». Все моментально — на- своих местах, они готовы к
отпору. У баррикады против наружной двери разместились наши ружейные стрельцы.
Справа на высокой баррикадной стене — вооруженные револьверами. Часовые
остаются на своих местах: они не смеют оставить их без приказания.
Обеденный стол сдвинут в сторону; сиротливо
глядят с него недоеденные остатки. «Свершилось!» — передается от одного к
другому, хотя никто не говорит ни слова, не издает ни звука. Тихое, напряженное
молчание... минуты ожидания встречи с врагом
лицом к лицу...
Но — никто не идет: не слышно бряцания
оружия, грубых окриков казаков и солдат...
— Довольно! — командует наш диктатор.
Это была «инсценированная тревога»...
III.
Планы.
Костя недоволен нашей бездеятельностью, его
томит безрезультатное ожидание нападения.
Мы лежим на полу при свете тусклых ламп, — лежим,
вповалку и болтаем. Рабочий день окончен, а спать еще не хочется. Кто-то взял в
руки случайно оставшийся здесь том энциклопедий Брокгауза-Ефрона. Напрягая
зрение, он пересматривает отдельные слова, а мозг его сверлит странная мысль: к
чему мне это знать? Не унесу ли я завтра с собой приобретенных сведений в
вечность?..
— Напрасно мы так сидим пассивно, без дела,
— настаивает на своем плане Костюшко. — В городе всего 120 солдат, и нам было
бы нетрудно одержать победу. Напасть ночью внезапно на казармы, обезоружить
половину гарнизона, обыкновенно там находящегося, силой оружия подчинить себе
остальную половину, стоящую на постах в разных частях города, захватить
государственные учреждения, полицию, почту и телеграф, взять в плен самого
губернатора и прочих представителей власти, провозгласить республику в Якутской
области и водрузить здесь красное знамя...
Раздаются скептические замечания:
— Костя не учел якутских казаков, более
многочисленных, чем «регулярное войско»... Что мы будем делать с завоеванной
властью в обширном, пустынном крае, отрезанные от мира, от всей России? Не
будем ли мы раздавлены войсками, которые бросят на нас из Иркутска и прочих
мест Сибири?..
... Казаков он, конечно, во внимание не
принимает; это не воины, а забитые, загнанные трусы, «верой и правдой» служащие
тому, кто им отдает приказания. А à lа longue (надолго) держать власть в своих руках в Якутске он не собирается... Наше
место не здесь, в улусах, среди тайги; нам надо пробраться туда, на Запад, «в
Россию», туда, где идет ожесточенная подпольная борьба! Туда надо пробраться во
что бы то ни стало: если нельзя прямо в западном направлении, то через Восток,
через Японию, через Америку!.. Пока царские войска будут двигаться с юга на
Якутск, мы, вооруженные, с красным знаменем, будем направляться на восток... К
нам примкнут разбросанные по улусам и селам политические ссыльные; наша рать
будет расти. Это будет смелый, яркий «исход»! Мы перевалим через горы, по
ледяному покрову перейдем реки, оставим позади себя сотни верст непроходимой
тайги и беспредельной снежной пустыни... Путь нам укажут наши же товарищи,
бывшие участники алданской экспедиции. Мы достигнем берегов Великого океана... А
там — переправа, свобода, встреча с американскими товарищами, повесть о пытках
ссылки и великом побеге и, наконец, возвращение на поле битвы с той стороны,
откуда нас совсем не ждали...
Опять скептические вставки и холодные
возражения: неведомый путь, пожалуй, совсем непроходимый, неминуемая гибель в
пути от усталости, мороза и голода, военный фронт на Востоке... А, главное:
неосуществимость первого акта — захвата казарм врасплох, при отсутствии связей среди
гарнизона, при нашем горе-вооружении и бдительной охране, окружающей наш дом...
А Костя не унимается: логическими доводами
хочет он доказать осуществимость своего фантастического плана.
Теснее укладываемся мы на полу. Кто-то уже
дремлет. В комнате темнее прежнего. Часовые сидят у окон и прислушиваются к
малейшему шороху. По комнатам бродит вестовой, громкий говор, переходит в тихий
шепот, гадают, что принесет утро... Костя убеждает своего соседа в правильности
своего проекта...
IV.
«Я убит».
Страшно слышать такие слова от человека, который
еще живет...
Мы лежали на полу — тесно, близко друг от
друга. Пули свистели над нашими головами: они решетили окна, стены и, проносясь
над нами, прокладывали себе дальше путь через противоположные стены.
А мы теснились на полу, защищенные блиндажом,
воздвигнутым нами в последние дни вдоль всех стен на высоте до окон. Те пули,
которые попадали ниже окон, глухо ударялись о поленья и земляные насыпи нашего
блиндажа, как бы громко ропща на то, что они даром выпущены и не получают
ожидаемой человеческой пищи.
Полные злобы, лежали мы на полу: нас душило
наше бессилие. Что можем мы делать с нашими охотничьими ружьями, револьверами,
топорами и финскими ножами против солдатского отряда, обстреливающего нас вот
уже третий день по приказанию начальства, держась на расстоянии выстрела
современного ружья?
Сидеть вот так неделями, быть
расстрелянными поодиночке, не будучи даже в состоянии сопротивляться, быть
лишенными возможности платить убийством за убийство, умирать от руки подлых трусов...
Мы не говорили об этом, но в голове бурлили
эти отрывки мыслей, аккомпанируя ружейному песнопению.
И вдруг я слышу страшные слова:
— Гриша, я убит!
Едва слышно срываются эти слова с уст моего
соседа по полу, Антона Костюшко. Какая-то пуля ухитрилась проскользнуть через
щели в блиндаже и попала ему в спину. Бледность, кровь, пот, жажда...
Наш доктор — на другой половине. Недалеко
от нас стоит бочка со льдом.
— Танечка! — Окликаю я, слегка подымаясь.
Мы подаем раненому куски льда.
Вот идет, наклоняясь, врач, — бледный,
волнующийся, сердитый:
— Подлецы!
— повторяет он.
Рана тяжелая, но Костюшко пока жив. Он не
стонет. «Танечка» держит себя молодцом, тесней только прижимаясь.
А пули все стучат, сердятся на неудачу и
несутся через наши головы все дальше и дальше...
В висках бьет сильнее, и неотвязчиво
сверлит вопрос: останется ли с нами военный мечтатель Костя, который только
вчера вечером снова и снова, развивал фантастический план внезапной вылазки,
захвата казармы и оружия, и вместе с ними — власти в Якутске, а затем — ухода
всех ссыльных вооруженными через тайгу, через Алдан, через горы, через море в
Японию, в Америку и — обратно в Россию?..
V.
«Последнее слово».
Процесс, тянувшийся уже свыше недели,
приходит к концу. Судебное следствие кончено, Обвинение и защита дважды
обменялись речами. Наступает предпоследний момент — последнее слово обвиняемых.
Суд как бы насторожился. Председатель
напряженно следит за каждым словом: как бы не пропустить крамольных речей.
Только тот член суда, который сидит по правую сторону от председателя,
по-прежнему что-то продолжает рисовать.
Говорит наш офицер В. Бодневский, — тот
самый, о котором кое-кто из свидетелей утверждает, что он во время нашего «сидения
на Романовке» выходил во двор вооруженным в каждой руке по револьверу.
Я, кроме этого раза, не видел Владимира
Петровича в роли оратора. Мне даже кажется, что это дело было ему не «по
нутру». Он был военный человек, «человек дела» и, пожалуй, не без
снисходительной улыбки относился к «орателям».
Теперь он первый заговорил к великому
смущению председателя, ибо это была речь обвинителя, —грозная, сильная,
уверенная в своей правоте. Она была соткана из отдельных коротких предложений.
Когда он говорил, мне казалось, что это пули стучат в стены осажденного дома,
совсем как на Романовке, но в осаде не мы, а они — судьи.
В зале нервное напряжение растет: слово
Бодневского нас электризует, а суд — волнует. Председатель многократно
прерывает его, но речь так построена, что после каждого перерыва начинается
новое предложение, как бы не продолжающее предыдущей «запрещенной» мысли.
И все-таки председатель выходит
«победителем»:
— Не стану я больше говорить, — уступает
поле битвы Бодневский.
Следуют другие «последние слова». Говорящие
нетерпеливо направляются председателем на путь «законности и порядка». Как мне
быть? Скоро — слово за мной, а моя тема сплошь незаконная. Я должен был
выяснить, как это случается, что сыны
народа — солдаты падают от пули борцов за народные массы. Я должен был говорить
о нитях, связывающих армию и революцию, о воздвигаемых между ними рогатках. Как
мне это сказать в форме, приемлемой для председательского уха?
Я плохо слышу слова своих товарищей, — я
ищу легальную форму для нелегальных мыслей. Моя внутренняя работа прерывается
жарким спором между председателем и В. Курчатовским: председатель призывает его
к порядку за «несдержанные выражения», а Виктор, глухой, продолжает свое слово,
но, наконец, он взволнованно и сердито машет рукой и садится, не сказав того,
что ему хотелось...
— Гирша Лурье, — вызывает председатель.
Что я буду говорить? В какую форму облеку
агитационное обращение к солдатам?
—
То, о чем я хотел бы говорить, я знаю, вы не дадите мне сказать; приспособлять
же свои слова к чужим вкусам — не в моем характере, а потому я отказываюсь от
своего последнего слова.
А в душе теплится надежда: это еще не
последнее мое слово!
/Каторга и Ссылка.
Историко-революционный вестник. Кн. 22. № 1. Москва. 1925. С. 207-212./
Г. Лурье
В ОЖИДАНИИ ВОЕННОГО СУДА*
[* В начале XX века, в годы 1902-1903, начинается первое
массовое заселение Сибири политическими ссыльными и вместе с тем начинаются
мероприятия царского правительства по удушению ссылки. Ссыльным запрещаются
всякие отлучки из мест их «оседлости»; им запрещают видеться с товарищами,
проходящими через места их поселения в более удаленные пункты. За всякое
«ослушание» грозит удлинение срока и перевод туда, куда Макар телят не гоняет.
Наконец, стали предлагать ссыльным по окончании срока ехать домой за свой счет;
для малоимущей массы это было равносильно чуть ли не вечному поселению. Группа,
якутских ссыльных в шесть десятков человек подняла знамя восстания. 2 марта
1904 г. они забаррикадировались в Якутске в одном доме и заявили: «Не
разойдемся до удовлетворения требований об изменении положения ссылки; на
попытки взять нас насилием ответим вооруженным сопротивлением». Ожидая
нападения, они вооружились; над своей импровизированной крепостью водрузили
красное знамя. Три недели сидели якутяне за баррикадами, две недели развевалось
их знамя на виду всего города. Правительство не посмело напасть на них открыто:
оно предпочло из-за угла, на далеком расстоянии, обстреливать дом. Осажденные
потеряли одного убитого и несколько раненных товарищей. Три дня производился
обстрел: осажденные, в распоряжении которых было почти исключительно
недальнобойное оружие, не могли оказать сопротивления. Они сдались, и оказались
в якутской тюрьме. Дом, в котором ссыльные забаррикадировались, принадлежал
якуту, который по смешному совпадению носил царскую фамилию «Романов». Дом
окрестили «Романовкой»; под таким же названием известна и сама история
якутского процесса 1904 г. Участники процесса прозваны «романовцами». См.
Теплов «История якутского процесса», Лурье «Два протеста» и др.]
*
Все кончено. Мы за решеткою: надо взяться
за книгу.
Несколько дней тому назад мы еще были за
баррикадами в нашем доме, который мы превратили в маленькую крепость в далеком
холодном Якутске.
В ожидании нападения на нас царских казаков
и солдат, в томительном ожидании обстрела и своего вооруженного сопротивления,
мы искали за баррикадами, в свободные от «крепостных» работ минуты [* На Романовке царил
«крепостной» режим. Начальство «крепости» намечало на каждый день работы для
всех участников: топили печи, ставили самовары, таскали дрова, снег, укрепляли
дом, обучали стрельбе, дежурили на постах. Только больных освобождали по
возможности от ночных дежурств и более тяжелых работ.], развлечения в
песне и пляске. Бывало в такие минуты рука потянется за книгой. Около наших
.блиндажей [* Стены
Романовки были заблиндированы ссыльными; только благодаря этому обстоятельству
они не были перебиты во время обстрелов дома. «Блиндажи строились из
лиственничных дров и образовывали вдоль наружных стен деревянную обшивку
толщиною в ¾ аршина и вышиною 1½ - 2 аршина от пола» (Теплов).], среди
берданок, револьверов, запаса сухарей и льда, лежат тома энциклопедического словаря,
напоминающие о мирной жизни в этом доме несколько недель тому назад.
Возьмешь в руки один из томов, раскроешь
его наугад, начнешь читать слово «Грибы» и вдруг подумаешь: «зачем это, к чему
эти сведения, когда вот, может быть, через несколько минут шальная пуля скроет
от тебя навсегда и грибы, и травы, и деревья, и все, все»...
...Теперь кончено. Оружие нами переломано [* Романовцы в ночь перед их
отправлением в тюрьму переломали большую часть своего оружия, чтобы лишить
врага, «трофеев». Незначительная часть была тут же закопана.], баррикады
разобраны врагом; мы в якутской тюрьме. Впереди военный суд: виселицы и
каторга. В памяти свежи предания о наших предшественниках: Гаусмане, Зотове,
Коган-Бернштейне [*
За 15 лет до Романовки в Якутске имела место другая история, известная под
именем: «Якутская трагедия 1889 г.» Собравшиеся в одном доме для протеста
против тяжелых условий ссыльные подверглись жестокому нападению: шесть человек
было убито, восемь ранено. Оставшиеся в живых были преданы военному суду,
который приговорил подсудимых к бессрочной и долгосрочной каторге. Суд выбрал
из числа подсудимых без достаточного основания трех человек: Гаусмана. Зотова и
Коган-Бернштейна и приговорил их к повешению. 19 августа 1889. г. приговор приведен
в исполнение. Утратившего, способность к передвижению, вследствие полученной
раны, Коган-Бернштейна принесли к виселице в кровати. Романовцы могли таким
образом предвидеть уготовленную им судьбу... См. «Якутская трагедия 22 марта
1889 г.».]...
Но нас свыше 50 человек, в нас бурлит
молодость и жажда жизни, а с нею — и жажда знаний. Наша тюрьма понемногу
превращается в вольный университет: языки, физика, Маркс, история
социалистического и революционного движения...
Начальство нас побаивается: мы вошли в
тюрьму со славою «головорезов». Оно не хочет с нами «связываться», да и не
стоит: здесь мы временные гости. Еще несколько месяцев, суд с нами расправится,
нас разошлют по настоящим каторжным .тюрьмам, и там нас научат «режимному
бытию». Пусть пока «балуются»...
И мы пользуемся трусостью начальства. Вот
группа наших товарищей за занятиями по физике — по всем правилам. Впереди
доска, у нее наш «физик и математик» Викер; он чертит мелом на доске разные
фигуры и формулы, а перед ним чрезвычайно внимательная аудитория — слушает,
записывает [* Те, кто
чувствовали недостаток в математических знаниях, пополняли их в группе,
руководимой романовцем Ройзманом.]. Обстановка для учебы не очень
удобная: скамейки, разумеется, без спинок, столов нет, записывать приходится на
бумаге, держа ее у себя на коленях. Спина немного ноет от напряжения; не беда:
устанем, разомнем плечи, споем, и пропадет усталость.
Вот другая группа изучает Бельтова «К
вопросу о монистическом взгляде на историю» [* Под псевдонимом Бельтова писал в легальной литературе
Плеханов. Упомянутая книга появилась в 1894 г., по ней учились
материалистическому пониманию истории.]. Здесь нет учителя: это — кружок
самообразования. Читают вслух по очереди и обсуждают читаемое. Сегодня читает
Костюшко [* Костюшко
— один из руководителей военной обороны Романовки. Впоследствии казнен
Ренненкампфом как один из руководителей «Читинской республики» 1905 г. См.
брошюру Г. Лурье «А. А. Костюшко», изд. О-ва политкаторжан.], недавно
оправившийся от раны, полученной за баррикадами. К нему прилипли Гельфанд и
Зорохович. Другие разместились тут же на земле. Чтение происходит на дворе, в
углу у забора.,
А вот сочетание работы и учебы. Таня [* Жмуркина.] и
Ревекка [* Рубинчик.]
чинят «коммунальное» [*
В тюрьме романовцы все время жили единой коммуной. Общими были не только
поступавшие через товарищей с воли деньги и книги, все продовольствие, но и
одежда и белье.] белье, кто-то читает вслух книгу «Предшественники
социализма», и от заплат арестантского белья мысль переносится к крестьянским
войнам, к коммунистическим попыткам XV века.
Вот кто-то крикнул: «телеграммы»; прибыли
последние газетные телеграммы о событиях на военном фронте, на Дальнем Востоке [* В 1904-1905 гг.
происходила русско-японская война.]. Какой-то счастливец захватил
газету; в миг его окружает «кобылка» и слушает, как он вслух читает телеграммы.
Военные термины, не всем понятны, но у нас есть спец. настоящий офицер,
участник «китайского» похода 1901 г. тов. Бодневский. Импровизированно организуется
группа по военноведению, — наука, захватывающая нас не только с точки зрения
осады Порт-Артура [*
Во время русско-японской войны происходила продолжительная осада русской
крепости Порт-Артур.]. Гул пушек на Дальнем Востоке сопровождается пока
еще, правда, подземным гулом российского подполья, рвущегося на поверхность. А
в воздухе для людей чутких уже пахло революционным порохом, баррикадами. Люди,
ждавшие в далекой якутской тюрьме виселиц и каторги, в душе мечтали быть еще
активными участниками грядущих уличных боев. Баррикадное искусство у нас в
моде: Розенталь [*
Романовец П. И. Розенталь написал в тюрьме книгу «Как происходили революции на
Западе».] пишет о том, как строились баррикады на Западе; Бодневский
дает уроки, как их надо строить у нас...
А там
в углу «кавказской» камеры происходит индивидуальное обучение. Тут живут наши
«гурийцы» — крестьяне грузины, пришедшие в Якутскую область за
социал-демократическое движение среди крестьян. Самый старший из них и вместе,
с тем самый интеллигентный, в лучшем смысле этого слова, Мизарбек Гобранидзе.
Ему уже под 50 лет, но он полон юношеской жажды знаний и борьбы. Он плохо
владеет русским языком, а грузинской литературы у нас нет.
Помню, сидит он со мной в своем
национальном крестьянском одеянии и кавказской шапке, смотрит на меня своими
добрыми, немного печальными и вместе с тем слегка смеющимися глазами и жалуется
на отсутствие своей родной книжки и непонимание русской книги. Мы решаем
позаняться.
И вот мы сидим в углу, перед нами какая-то
популярная марксистская книжечка о труде и капитале. Мизарбек читает, а я
объясняю. Объяснение двоякое: и словесное (непонятные слова и обороты), и по
существу. Тяжелая эта задача — настоящая «погоня за двумя зайцами». Порою —
сизифова работа. Да, у нас тогда еще не было ни на воле ни в тюрьме
«национальной школы на родном языке»...
Заговоривши о языках, я вспоминаю, как наш
художник-полиглот Израильсон любовно обучал группы французскому и немецкому
языкам. Почему наша публика так охотно занималась языками? Вряд ли многие из
нас тогда думали о жизни за границей. Языки были для нас ключом к обширной
европейской и американской социалистической прессе и литературе.
У нас была тогда в тюрьме книга Эритье на
немецком языке: «История революции 1848 года». Покойный Арон Гинзбург переводил
ее на русский язык. Не раз то один, то другой, рассматривая прекрасные
иллюстрации — лионское восстание 1831 г., появление революционного народа в
палате депутатов, — давали себе слово одолеть эти родные описания на чужом
языке.
Вспоминаются и анекдоты. Вот один питерский
рабочий изучает немецкий язык. От непривычки он безжалостно путает звуки «g» и
«h»: «gut» (хорошо) он произносит с твердым придыханием «hut», а «Нut» (шляпа)
превращается у него в «Gut». У него это сочетается с двояким произношением
слова «говор» (hоwоr).
...Систематическая учеба чередуется с
рефератами-диспутами. В жаркий летний день в тюрьме ведется еще более жаркая
дискуссия о соотношении двух двигателей истории — производительных сил и
классовой борьбы. Летят цитаты из «Коммунистического манифеста», «Капитала»,
примеры из прошлой истории и современной практики Запада; кипит нетерпение:
«история двигается слишком медленно»...
«Генералы», как шутит Моисей Лурье, наши
теоретики страстно выступают «генеральными» ораторами, а «массовики» чувствуют,
как многого им еще не хватает, чтоб активно участвовать в разрешении спорных
вопросов программы и тактики.
«Век сиди, век учись» — суммирует какой-то
шутник настроение после диспута.
А события то и дело нарушают нормальный ход
нашего «сиденья и ученья».
В первое время темные солдаты, караулившие
тюрьму, не дают покоя сквернословием и угрозами. Их восстанавливают против нас:
наша выдержка и готовность постоять за себя ликвидируют это состояние.
Начинается и весьма быстро кончается наш
допрос. Почти 60 человек, один за другим, дают следователю стереотипный ответ:
«от дачи показаний отказываюсь» — Можно вернуться к занятиям.
А в перерыве занятий, между хозяйственными
делами (на кухне, в прачечной, за уборкой), играми, пением и пляской, бурлит
вопрос: Какой суд? Кого выберут жертвой?!
И вот приходит весть: из Иркутска к нам
выехал военный суд.
Пришла эта весть и нарушила нашу учебу.
Уже мерещились виселицы вот тут во дворе,
где мы гуляем, где ведем диспуты, где предаемся учебе.
Уже мысленно выделялись нами будущие
жертвы: Теплов, как официальный представитель в самые острые моменты; офицер
Бодневский, которого лжесвидетели — трусливые казаки — видали во дворе с двумя
браунингами, по одному в каждой руке; Бройда, стрелявший, по словам другого
лжесвидетеля, в городового.
Нет! Не бывать этому!
Тюрьма крепко задумалась. В день казни, не
дожидаясь ее, поджечь тюрьму. Всеобщая свалка. Новые жертвы. Европейский
скандал. Но — без выделения подстрекателей и зачинщиков!
Планы один фантастичнее другого. Наш
диктатор как будто ожил; отрывочные фразы, рой мыслей, бесконечное шаганье по
камерам.
В эти дни не учились и не учили...
...Тревога оказалась ложной. Между
Иркутском и Петербургом шла переписка. Плеве [* Министр внутренних дел.] требовал военного суда,
струсивший Кутайсов [*
Генерал-губернатор, автор репрессивных циркуляров против ссыльные.]
защищал обычный суд. На фронте, на Дальнем Востоке, одни неудачи сменялись
другими, общественное мнение было против диких репрессий и за романовцев. Плеве
уступил.
Впереди остался «обычный» суд, без виселиц,
но с многолетней каторгой. Каторгой «каторжан» не запугаешь. «Романовцы» снова
взялись за учебу.
/Учеба и
культработа в тюрьме и на каторге. Сборник статей и воспоминаний. Москва. 1932.
С. 36-43./
Г. Лурье
РОМАНОВСКАЯ ИСТОРИЯ
(ПО АРХИВНЫМ ДАННЫМ)
Вместо предисловия
18 февраля 1904 г. на верхнем этаже одного
дома, находившегося в далеком Якутске, затевалось что-то неладное. Несколько
десятков политических ссыльных, по преимуществу социал-демократы и бундовцы [* Позже к ним
присоединилось несколько социалистов-революционеров.] собрались в этом
доме с намерением либо победить (впрочем, на непосредственную победу они почти
не надеялись), либо погибнуть здесь на месте от солдатской пули или несколько
позже на виселице.
Смерть они готовились встретить в жестокой
борьбе; это видно было по подготовительным действиям. С раннего утра на верхний
этаж стали носить «ноги мяса, круги мерзлого молока, телеграфную проволоку,
гвозди, топоры и т. д. У крыльца свалены были только что привезенные толстые
плахи, которые тоже моментально исчезали в доме. Тянулись возы с «твердой
водой» — льдом, который складывался на галерее сзади, а оттуда быстро уносился «политическими»
в кухню. Дошла очередь и до дров, огромные количества которых были заготовлены
как жившими на Романовке [* Дом, в котором забаррикадировались политические,
принадлежал якуту Романову; отсюда дом получил название Романовки. Сами
засевшие в доме получили название романовцев; таким образом, по прихоти судьбы
лица, поднявшие знамя восстания против царства Романовых, продолжают до сих пор
носить созвучное им имя.] политическими ссыльными, так и хозяином. От
крыльца к дровам и по лестнице выстроилась густая цепь политических, и в
воздухе замелькали тяжелые лиственничные поленья, быстро передаваемые из рук в
руки. Дрова у забора как бы таяли, одна сажень за другой поглощались домом.
Работа кипела... Подходили запоздавшие товарищи...» [* П. Розенталь. — «Романовка».].
Политические запасались не только дровами и
мясом; собрали, сколько возможно было, револьверов, финских ножей и несколько
ружей, хотя не дальнобойных. К полудню верхний этаж превратился в маленькую
крепость с баррикадами, с колючей проволокой, с «волчьей ямой» на лестнице.
Внутри крепости был введен военный порядок, с диктатором, с военной комиссией,
с начальниками отделений, с вестовым и часовыми у окна.
Скоро из-за баррикад отправлен был
ультиматум якутскому губернатору: «Заявляем, — писали забаррикадировавшиеся, — что
никто из нас не уедет из Якутска, и что мы не остановимся перед самыми крайними
мерами до тех пор, пока не будут удовлетворены следующие требования»... А затем
шли требования как будто довольно скромные: когда политические ссыльные следуют
по Сибири в назначенные им места, они должны пользоваться правом иметь по
дороге свидание с теми ссыльными, которые живут по пути их следования; должны
быть облегчены отлучки ссыльных с мест их постоянного назначения; за неразрешенные
отлучки ссыльные не должны подвергаться жестоким преследованиям, в виде
переселения в худшие и более отдаленные места; по окончании срока ссылки политические
должны получать от казны средства на обратный путь.
Как ни скромны были требования, но условия
их предъявления и подкрепление этих требований баррикадами предвещали
определенный исход: все забаррикадировавшиеся живо помнили якутскую бойню 1889
г., когда подобное событие в менее дерзкой форме повлекло за собой убийство
одних, казнь других и долгосрочную каторгу для третьих.
В доме господствовало «предсмертное»
настроение. «Посылали последнее прости перед неизбежной смертью, не стеснялись,
не утаивали. И не было расчета утаивать. Пока письма дойдут из далекого Якутска
до родных, — пройдут недели. Развязка же будет, конечно, несравненно раньше.
Кто выживет, тот успеет телеграммой парализовать действие своего письма. Кто
погибнет, от того письмо будет последним словом...» [* П. Розенталь. — «Романовка».].
---
Выступавший впоследствии на суде романовцев
петербургский защитник В. В. Бернштам так охарактеризовал впечатление, которое
произвело на него впервые известие о Романовке: первое, что пришло ему на
память, была картина Мясоедова: «Самосожжение».
В Москве, в Третьяковской галерее висит эта
картина. Среди темной ночи, в глухом лесу горят костры. Кругом толпятся стар и
млад. Они творят последнюю предсмертную молитву, готовясь броситься в огонь,
предать себя самосожжению во имя бога, во имя будущей жизни, в которую им
предстоит пробраться, через земную смерть.
Романовцы шли на самосожжение, однако, без
веры в загробную жизнь. Вот как объяснили они сами свое решение в прокламации:
«Чего мы хотим?», которую они выпустили «к якутскому обществу».
«Мы предпочитаем лучше умереть, защищаясь,
чем позволять издеваться над нами и нашими товарищами».
Борьба за свою революционную честь, борьба
за защиту права сохранения живой связи между ссыльными и тем миром, откуда они
насильственно оторваны, — вот главная причина их выступления. А царское
самодержавие как раз стремилось к обратному: оно хотело вытравить в душе
сосланных воспоминания о былой борьбе, оно хотело порвать те многочисленные
невидимые нити, которые связывали ссыльных через снежные поля Сибири с
пробуждающимися массами крестьян и рабочих далеко на западе.
Бойня 1889 г. нашла очень живой отклик в
Западной Европе, вызвала там бурю негодования, показала готовность
революционеров и в далекой Сибири всеми средствами отстаивать свое достоинство,
и царское правительство временно заколебалось. Режим в ссылке был смягчен,
власти смотрели сквозь пальцы на временные отлучки сосланных, новые партии
ссыльных более или менее беспрепятственно встречались по пути с прежними
ссыльными. В глухую пору упадка революционной борьбы в России ссыльные были уже
не так страшны правительству и льготы для них неопасны.
Но вот наступает новый век. После долгой
спячки страна оживает. Начинаются рабочие забастовки, крестьянские волнения,
студенческие беспорядки, политические демонстрации. Разгорается смертельная
борьба между революцией и реакцией. Введением усиленной охраны, массовой
ссылкой, назначением Плеве фактическим диктатором России и кровавыми погромами
отвечает правительство на рост революции.
Но и массовая ссылка оказывается не
достигающим цели средством: сибирская стужа не отрезвляет молодых голов.
Прибывают массы новых ссыльных, но они десятками бегут назад; остающиеся
поддерживают живую связь с театром революционных действий, снабжаются нелегальной
литературой, в кружковой работе и постоянных дискуссиях готовятся к продолжению
борьбы по окончании срока, а при первой возможности — пытаются продолжать
борьбу здесь, в ссылке. В Сибири появляются социал-демократические организации,
пытающиеся объединиться в один союз. Мягкий режим ссылки оказывается не ко
времени. В Сибирь выезжает новый генерал-губернатор, Кутайсов, со специальными
задачами подтянуть ссылку, погасить в ней дух борьбы.
Едва Кутайсов появился в Иркутске, как
посыпались новые циркуляры и распоряжения: ссыльным, следующим на место
назначения, запрещается свидание с ссыльными по пути; за нарушение этого
запрещения — ссылка в отдаленнейшие места — в Верхоянск и Колымск. То же
наказание, за самовольную отлучку, а разрешение на отлучку перестали давать
даже в необходимых случаях. Самая бдительная слежка за ссыльными, а по
окончании срока ссылки — поездка за свой счет или этапным порядком.
Пишущий эти строки был, пожалуй, одним из
первых, который познакомился, правда, только с неудачной попыткой применить
новый циркуляр о свиданиях. Наша партия, очень малочисленная и в сопровождении
столь же малочисленной команды с двумя жандармами во главе, отправилась из
Александровской пересыльной тюрьмы в Якутскую область летом 1903 года. Выехали
мы еще под знаком прежних патриархальных порядков. Дни стояли жаркие и сухие, и
жандармы, тоже недовольные палящим зноем, согласились на наше предложение
ездить ночью, а во время солнцепека отдыхать на станках.
Живо помнится такая остановка в Большой
Манзурке, где жила большая колония ссыльных. Часов шесть очень приятных провели
мы в их компании. Мы передали им последний привет от революционной родины,
сообщили самые свежие новости, успели поспорить по злободневным вопросам, а
милая «Саша» угощала нас сибирскими пельменями. Мы уехали оттуда уверенные, что
в такой обстановке мы сохраним душу живую для будущих времен.
Но вот где-то дальше по дороге жандармы
сообщают нам, что ими получена телеграмма о недопущении в дальнейшем свиданий в
пути. В Усть-Куте, где нам следовало сесть на пароход и ехать дальше по
направлению к Якутску, предстояло первое испытанно. Мы приехали туда к вечеру и
нас поместили в один дом, при котором была лавочка.
Мы тут же просили лавочника сообщить
местным ссыльным о нашем прибытии. Рано утром к нашему окну с улицы подошло
двое ссыльных, в том числе мой старый соратник, витебский сапожник, ныне
покойный, Мендель Бас. Внутри нашего дома заволновались жандармы, которые стали
нас уговаривать отойти от окна во избежание неприятностей, а на улице как
из-под земли выросли фигуры станового и десятских, которые довольно невежливо
убрали с собой наших посетителей. Помню, как тов. Сладкопевцева бросилась к
окну, у которого стоял солдат, готовый «действовать». Мы поторопились успокоить
своего товарища, но тут же заявили жандармам, что не поедем, пока не получим
свидания. Жандармы волновались, убеждали нас добром, запугивали, куда-то
бегали, не то за распоряжением, не то для дипломатических переговоров, а мы
ждали.
А с берега реки доносились пароходные
сигналы: пароход собирался в путь; жандармы обращают наше внимание на эти
свистки, а мы ждем насильственного увода. И вдруг, так до сих пор и не знаем
почему, к нам в комнату входят местные ссыльные. Поцелуи, приветствия, радость
встречи и боль из-за скорого расставания. Опять свистки парохода: в сопровождений
местных товарищей идем на пароход.
Так идиллически кончилась первая попытка
проведения в жизнь кутайсовского распоряжения. Дальше дело пошло гораздо хуже.
Следующие за нами партии подвергались не раз издевательствам и избиениям.
Жандармы и полицейские чины «начали вести себя крайне вызывающе, нередко
позволяли себе не только площадные ругательства, но и грубые насилия над политическими
ссыльными. Нашим товарищам — колонистам по Лене — пришлось изведать силу
урядницких кулаков и солдатских прикладов, а также прелести сибирских
клоповников-голодных» [*
П. Теплов. — История Якутского протеста.].
В России росла революционная волна: южная
волна огромных, почти всеобщих, забастовок 1903 года была предвестником
грядущей бури. Царское самодержавие хотело воздвигнуть непроницаемую стену
между борцами там и ссыльными здесь; романовцы проломили эту стену, из далекого
Якутска простерли они свои руки борющимся массам.
В Якутске в 1904 г. были воздвигнуты
баррикады; над Романовкой развевалось в течение недель красное знамя, пожалуй,
первое красное знамя, так долго продержавшееся перед лицом самодержавия.
---
Якутскому губернатору был послан
ультиматум; часовые заняли свои посты, плотно прижавшись к стеклам и
внимательно вглядываясь в уходящую в даль улицу: не двигаются ли солдаты, не
следует ли дать тревожного сигнала, не надо ли каждому занять свой боевой пост
у дверей, за баррикадой.
А войско не двигалось, никто не нападал,
никто не применял насилия по отношению к забаррикадировавшимся. Начальство
решило взять восставших измором, голодом и холодом. Дом был оцеплен
полицейскими и казаками с тем, чтобы отрезать осажденных от прочего мира, чтобы
воспрепятствовать подвозу пищи и топлива.
Когда же оказалось, что за баррикадами
имеются некоторые запасы, когда при истощении этих запасов осажденные смелой
вылазкой обеспечили себя новыми, начальство перешло от терпеливого выжидания к
системе провокации.
Дом был обложен более тесным кольцом
полицейских, казаков и солдат, караульные начинали «в шутку» целиться во
внутренних часовых осажденных, полицейские пытались грубыми выходками оскорблять
забаррикадировавшихся женщин, когда те показывались у окон.
Наконец, власти попытались лишить
романовцев возможности заблаговременно заметить нападение войск и оказаться в
должный момент готовыми к отпору. В начале марта, т.-е. когда наступила уже
третья неделя осады, романовцы однажды ночью заметили, что с улицы пытаются
закрыть ставни дома. Окна же служили постами для внутренних часовых, и
романовцы решили объявить закрытие ставень поводом к открытию военных действий.
Власти были уведомлены официально об этом
решении романовцев; тем не менее темные солдаты, подчиняясь черносотенной
агитации своей команды, продолжали свои попытки, и это привело 4 марта днем к
роковому выстрелу со стороны романовцев в двух солдат — орудие якутских
самодуров. В ответ начался обстрел дома, в результате которого был убит
романовец —рабочий Матлахов.
Минут 15 продолжался обстрел, а романовцы
лишены были возможности отвечать оружием. Стрелявшие солдаты находились на
таком расстоянии, что револьверы и охотничьи ружья осажденных им угрожать не
могли.
Обстрел прекратился. Под звуки песни «Вы
жертвою пали» товарищи вынесли тело Матлахова в чуланчик при выходной лестнице.
К красному знамени над домом была прикреплена черная лента.
А на другой день вдруг, без всякого повода,
раздался извне один выстрел, а за ним последовал жестокий продолжительный
обстрел дома. Приехавший губернатор объявил вышедшему к нему для объяснений
представителю романовцев, что обстрел явился ответом на выстрел, который, будто
бы, опять последовал из дома романовцев.
На третий день опять одиночный
провокационный выстрел извне, и снова долго пули свистели над головами
осажденных. Через два часа — такая же картина. И все это из-за угла и из
дальнего «защитного» расстояния.
Перспектива наметилась определенная. Не
дождаться нападения открытого, не встречаться с врагом лицом к лицу. Быть
обстреливаемыми изо дня в день, из часа в час без всякой возможности отвечать
тем же. Терять постепенно своих товарищей поодиночке, группами, в бессильной
злобе, в полной беспомощности. На это романовцы не пошли: они хотели пасть в
борьбе, но не быть перестрелянными, как овцы, без возможности сопротивляться.
А с каждым новым обстрелом, с каждой новой
беседой после этого с губернатором, все ярче выступала та сеть провокации,
которою стремились опутать романовцев. Их хотели не только перебить, но еще
оставить о них память, как о группе безумцев, которые заперлись в доме, без
всякого повода стреляли оттуда по караулу и тем накликали на себя заслуженную
смерть. Да, именно такова была версия начальства: романовцы начинают каждый раз
стрельбу по невинным людям, солдаты, полицейские и казаки вынуждены им отвечать
тем же.
Большинство романовцев решило, что дальше
при таком положении дел нельзя оставаться в осаде. Надо выйти из дома, хотя бы
путем сдачи, предстать хотя бы перед царским судом и раскрыть всю сеть
провокации, так хитро сплетенную ставленниками самодержавия.
Большинство так решило. Значительное
меньшинство было против сдачи. Напряженная была борьба мнений. Тело Матлахова
было вынесено 4 марта без плача, без стонов; результат подсчета голосов по
вопросу о сдаче был встречен рыданием кое-кого из меньшинства.
7 марта, утром, сдавшиеся романовцы были
отведены в якутскую тюрьму.
---
Романовцам посчастливилось! Их
предшественники, борцы 1889 г., пали жертвой глухой, темной ночи, царившей
тогда в России; глухой, едва слышный ропот, виселицы и многолетняя каторга были
непосредственным финалом первой якутской трагедии. «Романовка» же совпала с
предрассветом первой русской революции: она сама явилась утренним гудком,
будившим тех, кто еще спал глубоким сном; в свою очередь, она скоро была
озарена лучами восходящей революции. Через подымавшуюся волну подпольной
работы, через последовавшее затем 9 января, «потемкинскую историю» и всеобщую
забастовку — «Романовка» была вплетена в историю «великого года».
В далекой якутской тюрьме романовцы стали
получать неожиданные несказанно приятные сюрпризы — адреса, резолюции и
приветствия рабочих с театра революционных действий. Ростовские рабочие
прислали «горячий товарищеский привет якутским борцам, оставшимся верными
революционному делу даже в далекой Сибири». Тверские рабочие писали: «Товарищи!
Мы гордимся вами! Товарищи! Ваш поступок — пример для нас, пример стойкости,
непримиримости и отваги в борьбе за нашу свободу». «Только при том
воодушевлении и героизме, какой проявили наши товарищи в Якутске, мы можем
надеяться разрушить толстые стены крепости царизма», писали в своем приветствии
еврейские рабочие г. Минска.
И когда романовцы в тюрьме получили от
ростовских рабочих собранные ими деньги на улучшение «котла», они почувствовали
те неразрывные нити, которые протянулись между ними и их соратниками там,
далеко на западе.
И царские палачи вынуждены были считаться с
новыми бурными, мощными звуками: петля, заготовленная не для одного романовца,
осталась неиспользованной, а революционный октябрь 1905 г. раскрыл перед романовцами
двери каторжных тюрем.
30 октября освобожденные романовцы уже
участвовали в Иркутске в большом открытом революционном митинге, а своим
судебным защитникам они послали телеграмму следующего содержания: «Романовцы,
освобожденные восставшим народом, приветствуют своих защитников».
---
Якутский протест 1904 года, известный под
названием «Романовской истории», не может, вообще говоря, жаловаться на
отсутствие исторического освещения. Участники этого протеста уже с самого
начала тщательно собирали всякие материалы по его истории и очень скоро стали
их опубликовывать. Еще тогда, когда «романовцы» были в тюрьме, за границей, в
нелегальном издании, появились первые печатные материалы о протесте и судебном
процессе, принадлежавшие перу ныне покойного П. И. Розенталя (Анмана). Затем
протест нашел своего легального историка в лице также уже покойного П. Ф.
Теплова, составившего обширную работу, богатую фактами и материалами. Наконец,
сравнительно недавно упомянутый П. Розенталь воскресил эту историю в памяти
современников живым мемуарным сочинением «Романовка» [* Кроме самих романовцев, к истории якутского протеста не
раз возвращались и другие писатели, среди которых надо выделить защитника
романовцев В. В. Бернштама.].
Но в распоряжении этих авторов не было
архивных материалов, которые таились за семью печатями царским правительством.
Но вот пришла революция 1917 года, и тайное стало явным. Мы получили доступ в
«святое святых» жандармов и охранников; используя их архивное наследство, мы
имеем возможность дополнить некоторыми новыми штрихами картину одного из ярких
эпизодов революционной борьбы с самодержавием накануне 1905 года.
В распоряжении автора этих строк находились
следующие «дела»: 1) дело № 193 департамента полиции, 5 делопроизводство, 1904
год, часть первая, лит. А: «О вооруженном сопротивлении политических ссыльных в
Якутске 4 марта 1904 года»; 2) дело департамента полиции, 5 делопроизводство,
1904 год, № 193, часть 2, лит. А: «О протесте политических административных
ссыльных в Якутской области против правил надзора и распоряжений местных
властей»; 3) дело департамента полиции, 5 делопроизводство, 1904 год, № 193,
часть первая, лит. Б: «Приговор Якутского окружного суда от 30 июля — 8 августа
1904 года. Общая переписка»; 4) дело первого департамента министерства юстиции,
первое уголовное отделение, первое делопроизводство, 1905 год, № 1008 (по
архиву № 3.028), том первый, «по обвинению: дворянина Л. Никифорова и других».
Мы здесь не упоминаем о некоторых других «делах», которые присоединены к
предыдущим, но которые общего интереса не представляют.
Надо сказать, что перечисленные дела, по-видимому,
далеко не исчерпывают всей переписки по Романовскому делу. Мы, например, не
нашли обмена мнений иркутского генерал-губернатора Кутайсова и министерства
внутренних дел по поводу требований, выдвинутых романовцами 18 февраля 1904
года, между тем такая переписка имела место, как это видно из рапорта прокурора
иркутской судебной палаты министру юстиции от 27 февраля 1904 года, где мы,
между прочим, находим следующее сообщение, ярко рисующее отношение министерства
внутренних дел к законным требованиям ссыльных:
Кутайсов, сообщает прокурор, находит
требования политических о разрешении им свиданий со ссыльными по пути их
следования в ссылку и о том, чтобы они подвергались наказанию за самовольные
отлучки только в судебном порядке, «безусловно не подлежащими удовлетворению,
последнее же требование (речь идет о предоставлении средств
ссыльным, окончившим срок, на обратный проезд на родину Г. Л.) — признает
вполне законным. Вследствие этого им было сделано сношение с министерством
внутренних дел об ассигновании кредита на обратную отправку политических
ссыльных, окончивших определенный им срок высылки в Восточную Сибирь, но
министерство не нашло возможным удовлетворить его ходатайство за отсутствием
средств на этот предмет» [* Дело мин. юстиции, стр. 9.]. Получается довольно
странная комбинация с точки зрения соблюдения закона: министерство не отрицает
законного права окончивших ссылку на средства для обратного пути и вместе с тем
отказывается выполнить законное требование, а прокурор, представитель
законности, пишет об этом «в спокойных тонах» высшему блюстителю закона
империи, ни слова не прибавляя в защиту попранного закона.
Романовцам отказывают в удовлетворении их
законных и «незаконных» требований, но зато власти тщательно заботятся об
«охране порядка и тишины». 28 февраля в 7 часов 13 минут утра из Иркутска летит
телеграмма Кутайсова на имя министра внутренних дел Плеве следующего
содержания:
«Забаррикадировавшиеся в Якутске
поднадзорные, судя по прежним примерам и по издаваемым ими прокламациям,
постараются всеми способами, чтобы это приняло как можно большую огласку, и
чтобы их пример вызвал подражание и в других местах, где только есть
поднадзорные. Поэтому признаю крайне необходимым подвергнуть их переписку
просмотру, для чего полезнее всего установить здесь известную цензуру над
письмами, отправленными из Якутска на имя других поднадзорных, и вообще
подозрительными, идущими оттуда через иркутскую почтовую контору. Желательно
получить соответствующее разрешение телеграфом, чтобы можно было
заблаговременно принять надлежащие меры до прихода сюда первой якутской почты,
иначе можно ожидать возникновения подобных беспорядков и в других местах» [* Дело № 193, ч. I, лит. А,
стр. 7.].
29 февраля Плеве ответил Кутайсову
телеграфно:
«По телеграмме 28 февраля распоряжение
сделано» [* Дело №
193, ч. I, лит. А, стр. 8.].
Романовцев отрезали от внешнего мира,
подвергли строжайшей блокаде и вынудили 4 марта к открытию военных действий. В
тот же день якутский вице-губернатор Чаплин посылает министру внутренних дел
телеграмму, ярко рисующую напряженность борьбы:
«Сегодня [в] три часа дня
забаррикадировавшиеся 57 поднадзорных, из которых 6 женщин [и] одна [с]
ребенком [* На
Романовке ребят не было; женщин было 7.], несколькими выстрелами [в]
отверстие дома убили часового, рядового местной команды, [и] другого смертельно
ранили... [*
Многоточие в цитатах обозначает у нас пропуск менее интересных мест.] Я
не передал действовать оружием для достижения ареста, в виду заявления
начальника команды капитана Кудельского: единственный способ добиться
благоприятного результата, [он] должен сделать до десяти залпов, убив часть
забаррикадировавшихся, [и] подготовить тем возможность проникнуть внутрь.
Убежден, [что] солдаты, проникнув, уничтожат политических до последнего;
другого способа арестовать нет; предположенный способ применю, если последует
указание генерал-губернатора. [В] шесть часов вечера мне донесено, [что]
городовые и казаки, находящиеся [на] охране, разбежались; полицеймейстер
водворил их вновь... [*
Там же, стр. 9.]».
Любопытно, как Чаплин и Кутайсов стремились
переложить друг на друга инициативу по истреблению романовцев. Чаплин готов
применить этот способ «если последует приказание генерал-губернатора», а
последний телеграфирует Плеве 6 марта следующее:
«...Положение серьезное; поднадзорные так
далеко зашли, что единственное, вероятно, средство теперь является вооруженная
сила, но дать по этому поводу указания невозможно, так как, благодаря
своеобразным местным условиям, всего предусмотреть нельзя; дальность же
расстояния и двадцатидневный путь лишают возможности самому туда ехать или
кого-либо командировать. Чаплин, судя по его нерешительности, отсутствию
распорядительности, целому ряду промахов, не такой человек, на которого можно
положиться» [* Там
же, стр. 12.].
Чтобы закончить с первым периодом Романовской
истории, со временем блокады (18 февраля — 6 марта 1904 года), приведем здесь
следующий любопытный документ. Это письмо, полученное Чаплиным 26 или 27
февраля по почте и пересланное в копии в департамент полиции:
«Милостивый государь! Я не принадлежу к
политическим ссыльным, я просто представляю частицу, единицу той части русского
общества, которое не борется с окружающим злом насилием, но сохранило в себе
некоторую отзывчивость и порядочность, которые не позволяют ей вполне
равнодушно относиться к происходящему перед ней...
Из этой среды — дворянской, буржуазной,
чиновничьей интеллигенции вышли вы, вы теперь соприкасаетесь с ней. И как бы ни
загашены были в ней чувства активного протеста, но и она клеймит именем палачей
виновников якутской бойни 1889 г., заклеймит тем же именем и вас. Чувство
нравственной брезгливости не позволит ей относиться к вам, как к честному
человеку, если совершится то, что, по-видимому, должно совершиться — подлость
назовется подлостью, и до конца вашей жизни, при виде вас, при произнесении
вашего имени будет упоминаться: «Это — один из главных убийц и палачей второй
якутской бойни».
Но мало этого — история не будет стеснена
цензурой, и много лет спустя ваши дети, ваши внуки будут краснеть за свое имя,
покрытое кровью и позором на ее страницах...
Вы не можете прятаться за предписания и
инструкции — от ваших отзывов и представлений зависит слишком много, весь
характер дела. В первые дни все общество было настолько наивно, что возлагало
надежды на вашу «тактичность», и видело в вас человека с честью и совестью,
который действительно хочет устранить возможность кровавого исхода.
Но последние дни показывают, что эта
«мирная тактика» была только для того, чтобы выиграть время и подготовиться.
Все клонится к тому, чтобы или уморить
голодной смертью 50-60 человек, или довести их измором до безумной выходки [* «До позорной сдачи вы их
не доведете». (Сноска в оригинале).], чтобы сложить с себя
ответственность за начало бойни, за «первый выстрел».
Но и общественное мнение, и история не
ошибутся и запомнят, что кровь расстрелянных и повешенных на вас и на детях
ваших...
Голос из общества» [* Дело деп. полиции № 193, ч. 2, лит. А,
стр. 36. Письмо заметим от себя, послано сестрой одного политического
ссыльного, которая находилась тогда вместе с братом в Якутской области. Сейчас
она работает, как врач, в Ленинграде.].
Романовцы сдались, баррикады разобраны;
начинается вторая стадия: суд идет.
Еще 6 марта, когда романовцы еще сидели за
баррикадами, Плеве телеграфирует Кутайсову со свойственной ему решительностью:
«...Все должны быть привлечены к следствию
и заключены под стражу для предания их затем военному суду, как то имело место
в 1889 году по аналогичному делу» [* Дело № 193, ч. I, лит. А, стр. 11.].
Кутайсов,
по-видимому, в ответ телеграфирует 7 марта:
«...Мною все будут преданы военному суду» [* Там же, стр. 15.].
«Просьба» о предании романовцев военному
суду получена была Кутайсовым также от генерал-лейтенанта Сухотина, степного
генерал-губернатора в Омске.
Кутайсов, по сообщению Сухотина, «выразил
не только согласие, но даже заявил, что он сами так решил» [* Там же, стр. 42 и 63.].
Дело считалось уже решенным; 8 марта
министр юстиции получил телеграмму от прокурора иркутской судебной палаты, в
которой сообщалось, что «по распоряжению министра внутренних дел, политические,
виновные в беспорядках, будут преданы военному суду» [* Дело 1-го деп. мин. юстиции, стр. 8.].
Трусливый Кутайсов, однако, своего слова не
сдержал: «романовцы», как известно, были преданы не военному, а обычному
окружному суду, и только, благодаря этому обстоятельству, спаслись от петли,
которой ждал для них Плеве, «как то имело место в 1889 году». Время было не
такое: более «чуткие» администраторы уже чувствовали предвестников бури. Ссылка
бурлила, как кипящий котел, и настроение «общества» было также на ее стороне. В
апреле начинается переписка, подготовляющая почву для отказа от чрезвычайного
суда.
8 апреля прокурор иркутской судебной палаты
пишет министру юстиции длинный рапорт [* Дело департамента полиции № 193, ч. I, лит. А, стр.
21-24. Это уже второй рапорт прокурора о Романовской истории. Первый был послан
им министру юстиции 31 марта; на этом рапорте имеется надпись министра:
«Происшествие совсем необычайное».] с изложением своих соображений «о
причинах, вызвавших беспорядки... и об условиях, сделавших такие беспорядки
возможными». Разбирая кутайсовские циркуляры с точки зрения их
нецелесообразности и частью незаконности, прокурор пишет в заключение:
«По многим местным условиям: по
отдаленности от центров, по составу населения и т. п., Якутская область,
несомненно, может быть местом политической ссылки [* Почетному сановнику на расстоянии 3-х тысяч верст от
Якутска область казалась, несомненно, подходящей для политической ссылки.
Стоявшая ближе к краю местная якутская власть в течение десятков лет не
переставала, наоборот, обращать внимание центрального правительства на
неприспособленность Якутской области в качестве места политической ссылки. Во всеподданнейшем
отчете якутского губернатора за 1903 год, т.-е. накануне Романовской истории,
мы находим пространные соображения в доказательство этой неприспособленности,
которые мы даем в виде приложения к настоящей статье. Впрочем, якутскими
губернаторами, вероятно, также руководили по существу не соображения о
непригодности области для политических ссыльных, а желание освободить себя от
хлопот, причиняемых пребыванием ссыльных в области и необходимостью надзора за
ними.], но для этого необходимо сначала приготовить область для этой
ссылки, необходим ряд систематических мероприятий для организации ее. При
настоящих же условиях всегда можно ожидать повторения таких же беспорядков,
какие имели место в феврале и марте сего года».
Непосредственно вопроса о чрезвычайном суде
рапорт не касается, но он, по-видимому, стремится, между прочим, указать на
отсутствие основания для изъятия из общей подсудности. Может быть, поэтому,
рапорт был препровожден министром юстиции на усмотрение Плеве [* Дело № 193, ч. I, лит. А,
стр. 20.].
3 мая «сам» Кутайсов пытается пространными
соображениями [* Там
же, стр. 35-46.] убедить всесильного диктатора Плеве в пользу обычного
суда. Мы не будем следить за ходом его мыслей и приведем только одну-другую
цитату из соображений, поколебавших будто его решение относительно военного
суда:
«При не установлении степени виновности
каждого из преступников в отдельности, суд будет поставлен в необходимость
определить всем обвиняемым одинаковое наказание, т.-е. приговорить их всех, в
силу 279 статьи воинского устава о наказаниях, к смертной казни. Исполнение
этого приговора над столь выдающимся числом преступников по многим причинам
едва ли осуществимо... Бессрочная каторга может быть и почти несомненно будет
определена подсудимым и судом гражданским».
В заключение Кутайсов ссылается на
авторитет целых двух прокуроров, гражданского и военного, которые тоже
высказываются против изъятия дела из общей подсудности.
Диктатор смилостивился: на докладе
Кутайсова Плеве «собственноручно» сделал надпись, которая 18 мая претворена
была в следующую телеграмму на имя Кутайсова:
«Я вполне разделяю ваше окончательное
предположение о направлении дела о беспорядках Якутске в гражданский суд.
Министр внутренних дел Плеве» [* Там же, стр. 47.].
Упомянутый выше Сухотин, узнав о
«вероломстве» Кутайсова, счел «долгом» опротестовать подобное «послабление» в
телеграмме на имя военного министра.
Протест не возымел действия, романовцы были
преданы суду якутского окружного суда. Сердце начальства опять волнуется: 21
мая 1904 года в 6 часов пополуночи из Иркутска отправляется министру внутренних
дел шифрованная телеграмма следующего содержания:
«Ожидаю беспорядки Якутске во время суда и
самовольного прибытия туда ссыльных из разных мест; помешать невозможно, многие
вооружены; всех в области триста восемнадцать; сношения между ними постоянны,
летом сообщения удобны. Войска нет, полиции недостаточно и ненадежна, чтобы
обеспечить, насколько возможно, порядок и предупредить, случайности. Удалось получить
тридцать конвойных для сопровождения ушедшую пятнадцатого мая партию; конвойных
просил оставить там, но этого недостаточно, предлагаю сформировать новую партию
и отправить с более сильным конвоем, человек в пятьдесят, но сделать этого без
вашего содействия не могу. Сухотин, не заинтересованный сохранением порядка у
меня, наверное откажет. Необходимо категорическое приказание военного министра.
По верным сведениям, арестованные предполагают затянуть дело, пользуясь
законными сроками и распоряжениями. Предвидя это, сейчас до окончании суда
отправляю в Александровскую тюрьму, откуда уже могут подавать апелляции. В виду
ожидаемых беспорядков и демонстраций, не признаете ли возможным, дабы они не
сошли безнаказанно, исходатайствовать мне, без опубликования, право
демонстрантов подвергать тюремному заключению до окончания срока высылки;
безнаказанность этих негодяев все увеличивает их дерзость и дает им
уверенность, что раз они сосланы, то могут позволять себе все, что угодно, слишком
они уже набалованы. Без крутых мер ничего не сделать.
Подписал: генерал-губернатор граф
Кутайсов».
Любопытный документ, не правда ли? — и это
взаимное подсиживание двух генералов, Сухотина и Кутайсова, из которых первый
как будто бы готов даже попустительствовать «беспорядкам», если можно таким
образом причинить неприятности коллеге; и эта тоска по крутым мерам против
«этих негодяев» в устах Кутайсова, который, как мы увидим, скоро запоет совсем
другие песни; и оговорка о неопубликовании предоставляемого ему права подвергать
тюремному заключению, и т. д., и т. д.
Мы не знаем, было ли предоставлено ретивому
генералу это право; во всяком случае, никто в Якутске не был подвергнут
тюремному заключению до окончания срока высылки, хотя, как известно, в Якутске
состоялась довольно внушительная демонстрация с участием значительной части
ссыльных при отправке романовцев после суда в Александровскую тюрьму.
Относительно этой демонстрации мы находим в архиве довольно любопытный
материал, показывающий, как «правдиво» местные власти давали сведения центру о
событиях. Вот что сообщает якутский губернатор Булатов департаменту полиции 7
сентября 1904 года о проводах романовцев:
«Проводить партию до пристани собралась
часть находившихся в городе поднадзорных, некоторые из них запели было какую-то
песню, слова которой нельзя было разобрать, но тотчас же, остановленные
полицеймейстером, прекратили пение и только один из толпы — Файвель Гимельфарб,
освобожденный от надзора полиции на основании высочайшего манифеста 11 августа
с. г., позволил себе крикнуть: «Долой самодержавие». Выходка эта не была,
однако ж, поддержана другими политическими ни из партии, ни из сопровождавших
ее, и арестантская партия спокойно дошла до пристани и разместилась на баржах» [* Дело департамента
полиции, 1904 г. № 193, ч. I, литера Б, стр. 3.].
Достаточно прочесть «Историю якутского
протеста» П. Теплова [*
Стр. 352-353.], чтобы увидеть всю лживость этого донесения начальства.
Пение революционных песен, такое явственное пение, что оно не могло быть не
разобрано чутким ухом начальства, и столь же явственные недопустимые возгласы
не прекращались всю дорогу от момента выхода из тюрьмы до момента отправки
паузка по Лене от берегов Якутска. В манифестации слились сами романовцы и
провожавшие их ссыльные, хотя они были разделены друг от друга тесным кольцом
конвойных. А что касается вмешательства полицеймейстера, то у многих участников
еще до сих пор, вероятно, остается в памяти следующий комический момент: ворота
якутской тюрьмы открываются, романовцы выходят с пением «Варшавянки»;
полицеймейстер Березкин, стоя впереди собравшихся ссыльных, потерявшись,
замахал руками, требуя прекращения пения, а в ответ ссыльные и романовцы еще
громче продолжают петь, при чем один из романовцев тоже размахивает руками,
дирижируя пением.
Губернатор, очевидно, счел нужным замолчать
все это для того, чтобы не получить выговора за непринятие мер, и, по-видимому,
это ему удалось. В худшем положении оказался офицер, сопровождавший партию
романовцев из Якутска в Александровскую тюрьму. Надо ему отдать справедливость,
что он, из страха ли перед бунтовщиками, из либерализма ли, или просто от
душевной слабости, держался очень прилично по отношению к романовцам, принял их
с таким легким обыском, что они сохранили при себе оружие, в дороге давал
разные поблажки и в общем мало выполнил полученные распоряжения в смысле
недопущения по дороге общения романовцев с местными ссыльными. Правда, в
некоторых местах он уступал в этом отношении романовцам только под влиянием
весьма определенных угроз оказать самое серьезное сопротивление его попыткам
помешать такому общению, но его либерализм или трусость именно в том и
проявились, что он не довел до таких столкновений.
Оказалось, что иркутское губернское
жандармское управление не дремало: оно тщательно собирало сведения о движении
романовцев по пути из Якутска в Александровскую тюрьму и составило об этом
подробное донесение директору департамента полиции, отмечая все случаи поблажек
и «незаконного» поведения романовцев.
5 сентября, сообщает жандармское
управление, осужденные по якутскому протесту проследовали через Киренск.
Ссыльные из села Чечуйского, Меер и Сура Годлевские, Хая Гиршфельд, Александр
Яндовский и Янкель Городецкий, самовольно отлучились из места своей ссылки и
силой пробрались на баржу, на которой ехали якутяне. По дороге якутяне и
сопровождавшие их ссыльные пели революционные песни, а в Киренске большинство
арестантов пошло на квартиру к бывшему ссыльному Кизинскому, где оставались
около часу.
15 сентября прибыли в село Жигалово. 16-го
утром начальник конвоя Рябинин думал отправиться дальше, но осужденные
потребовали «дневку», чтобы повидаться с местными ссыльными. Здесь к якутянам
явились Соломон Цейтлин и Юдель Вольенер, которые самовольно прибыли из своего
места ссылки, села Знаменского; после свидания, сообщает жандармское
управление, они были арестованы и отправлены обратно [* Романовцы не знали своевременно об этом аресте: это
делалось тайно, чтобы не вызвать столкновений.]. Якутяне, говорит дальше
сообщение, послали нарочного в Знаменское, чтобы сообщить ссыльным о своем
проезде; источником этих сведений сообщение называет донос ссыльнопоселенца
Якова Хольштама.
17 сентября прибыли в Верхоленск. 18-го
заявили, что не двинутся дальше, пока не получат свидания с местными ссыльными.
Рябинин уступил.
18 сентября прибыли в Харабатово. Помощник
пристава Бесараб заявил, что ему вверено сопровождать партию и не допускать
свиданий. 19-го прибыли в его сопровождении в Манзурку. Ссыльным запретили
показаться на площади, где остановились якутяне. Ссыльные Боринский, Чантладзе
и Нейфельд вступили в разговоры с якутянами. Урядник вмешался, желая
воспрепятствовать незаконным сношениям. Один из романовцев заявил Бесарабу:
«Почему вы воспрещаете свидания с нашими товарищами, когда это разрешает
офицер? Разве вы хотите, чтобы мы отсюда не выехали?». Бесараб, узнав, что у
якутян имеются револьверы, устранил себя, а Рябинин удовлетворил требование
якутян.
Таковы наиболее интересные места из
сообщения начальника иркутского губернского жандармского управления директору
департамента полиции от 26 октября 1904 года [* Дело № 193, ч. I, лит. Б.]. Это сообщение, как мы
видим, резко отличается от сообщения якутского губернатора, но надо же войти в
человеческую природу: там губернатор защищал свой престиж, а здесь жандарм
выслуживается ценою доносов на другого начальника.
---
От губернаторских и жандармских сообщений
перейдем к одному любопытному человеческому документу: в архиве первого
департамента министерства юстиции находится следующее обращение матери
якутского вице-губернатора Чаплина на имя министра внутренних дел
Святополк-Мирского, написанное 8 ноября 1904 года:
«Псалом S 1.
«Услыши, господи, правду мою,
«вонми молению моему, внуши
«молитву мою не во устах
«льстивых».
«Милостивый государь,
Князь Петр Дмитриевич.
В память моего дорогого умершего сына
Николая [* Якутского
вице-губернатора, умершего в Якутске в 1904 г.], почивающего свой вечный
сон в Якутске, зная, что он своей рассудительной твердостью и отвагой спас
много жизней от худшего конца и покорил их закону, — умоляю ваше сиятельство
смягчить, простить несчастных заблудших, повергнув судьбу их к стопам
всемилостивого нашего государя императора.
Его величества верноподданная
Вера Чаплина».
Это наивное письмо, в котором Чаплина даже
забыла точно указать о каких «несчастных заблудших» она ходатайствует, было
отправлено министром внутренних дел на усмотрение юстиции с разъяснением, что
речь, вероятно, идет об осужденных по якутскому протесту.
---
Романовцы были доставлены из Якутска в
Александровскую тюрьму, сравнительно недалеко от Иркутска, а в апреле 1905 г.
было назначено к слушанию вторично дело романовцев в апелляционном порядке в
иркутской судебной палате в г. Иркутске. «Старенький Кутайсов как-то прозевал
тот момент, когда палата решила рассмотреть это дело в самом городе Иркутске,
но когда он узнал об этом, его трусливое сердце забилось: как бы чего не вышло.
Находясь тогда в Петербурге, он телеграфирует 26 марта старшему председателю
иркутской судебной палаты следующее:
«Признавая безусловно необходимым в целях
сохранения порядка, чтобы якутское дело разбиралось не в Иркутске, а в
Александровском, где легче избежать нежелательных демонстраций, прошу
телеграфировать о причинах, этому препятствующих» [* Дело I департамента министерства юстиции, I уг.
отделение, I делопроизводство, 1905 г., № 1008, Т. I, стр. 131.].
27 марта председатель палаты ответил
Кутайсову телеграфно, что дело уже назначено к слушанию в Иркутске и что
изменить место он не считает возможным, так как это послужило бы кассационным
поводом, на что Кутайсов разразился 28 марта новой телеграммой:
«Якутские были переведены в Александровское
по соглашению с вами именно с целью судить их там, а не в большом городе.
Определение палаты мне было неизвестно, узнал о нем только из газет.
Назначенное в Иркутске разбирательство, кроме значительных затруднений для
администрации, может вызвать большие беспорядки, миновать которые было бы
вполне возможно, если бы вам угодно было сообщить мне определение палаты, так
что вся ответственность за них падает по всей справедливости не на
администрацию» [* Там
же.].
Эта телеграмма была оставлена без ответа.
Кутайсов не унимался. Находясь тогда в Петербурге, он настаивал перед министром
юстиции на слушании дела в Александровске. Министр обратился с запросом к
председателю иркутской палаты, но тот категорически отверг это предложение,
разобиженный «странной» телеграфной перепиской Кутайсова. Вот что, между
прочим, он по этому поводу пишет министру юстиции 30 марта 1905 года:
М. Ю.
Доверительно.
Старший председатель
иркутской судебной
палаты.
Марта 30 дня 1905 г.
№ 2007.
Господину
управляющему
министерством юстиции.
В дополнение к телеграмме моей от 29 марта,
довожу до сведения вашего высокопревосходительства, что 26 марта мною получена
от графа Кутайсова следующая телеграмма: «Признавая безусловно необходимым в
целях сохранения порядка, чтобы якутское дело разбиралось не в Иркутске, а в
Александровском, где легче избежать нежелательных демонстраций, прошу
телеграфировать о причинах, этому препятствующих».
Телеграмма эта явилась для меня совершенною
неожиданностью, так как на предъявление таких требований и в такой форме
генерал-губернаторы законом не уполномочены даже в местностях, объявленных на
положении усиленной охраны (к каковым Иркутск не принадлежит), и так как граф
Кутайсов не писал и при частых личных свиданиях ни разу не говорил мне о
каких-либо неудобствах слушания упомянутого дела в Иркутске... Наконец, по
поводу предполагаемых беспорядков и манифестаций во время или по поводу разбора
дела ко мне никаких сведений и сообщений не поступало. Нужные меры
предосторожности в этом отношении приняты, но я имею основание думать, что
разбирательство дела пройдет в судебной палате так же спокойно, как и в 1-й
инстанции, когда граф Кутайсов также ожидал каких-то беспорядков.
Старший председатель (подпись).
Секретарь (подпись).
(Дело м. ю. 1905 г. № 1008, т. I, арх. №
3028, стр. 131 и 132).
Надо отдать справедливость Кутайсову, что
на этот раз он оказался прозорливее председателя палаты насчет возможных
беспорядков и манифестаций. Об этом свидетельствуют приведенные ниже два
сообщения о ходе суда и о сопровождавших его манифестациях:
Дело м. ю. 1905 г. № 1008, т. I, стр. 136.
20 апреля.
Секретно.
Его
высокопревосходительству
господину министру юстиции.
Копия представления прокурора
иркутского окружного суда
прокурору иркутской судебной палаты от
6 апреля 1905 года за № 669.
Имею честь донести вашему превосходительству,
что 6 апреля сего года в г. Иркутске, во время слушания в иркутской судебной
палате дела по обвинению Курнатовского и других по 263, 266 и 268 ст. улож о
нак., приблизителыю около 7½ час вечера, у здания судебных установлений
собралась толпа учащихся обоего пола и других лиц, числом около 200 человек. К
этой толпе из окна здания суда обратился с каким-то криком один из обвиняемых и
после этого в толпе раздались крики собравшихся: «Долой самодержавие, долой
царя», затем вся масса, двигаясь по направлению к Большой улице, разбрасывая в
большом количестве прокламации издания иркутского комитета Р.С.-Д.Р.П., с датой
3 апреля 1905 года, увлекая за собой проходившую и гулявшую публику стала
распевать «Дубинушку» и «Марсельезу», прерывая песню криками: «Долой
самодержавие». Ни флагов, ни каких-либо других знаков в толпе не было, шла она
посредине улицы, почти вплоть до городского театра, а затем, когда появилась
вызванная рота солдат, демонстранты разбежались, частью смешались с не участвовавшей
в демонстрации публикой, а частью бросились в здание театра. Здесь некоторые
лица были задержаны, но вскоре отпущены, так как невозможно было установить,
принимали ли они участив в описанной демонстрации. Я лично был на месте
происшествия и могу удостоверить, что при мне ни солдаты, ни городовые оружия в
ход не пускали, да и надобности в том не представлялось и никому насилия
причинено не было, из толпы же был пущен камень, поранивший легко в голову
одного городового. Расследование производится. При сем имею честь представить и
два экземпляра прокламаций, разбросанных демонстрантами как у здания судебных
установлений, так и на Большой улице.
Прокурор Фаас. И. д. секретаря
(подпись).
№ 670. 6 апреля 1905 года.
Секретно.
М. Ю.
Арестантское.
Прокурор иркутской
судебной палаты.
Апреля 7 дня 1905 года
№ 256.
Дело о сопротивлении в
г. Якутске политических
ссыльных.
В первый департамент министерства юстиции
(второе уголовное отделение, 3 делопроизводство).
В дополнение к отношению от 19 февраля сего
года за № 120 и телеграфному донесению моему от сего числа на имя господина
управляющего министерством юстиции, препровождаю при сем в первый департамент
копию резолюции иркутской судебной палаты, состоявшейся 5-6 сего апреля по делу
о Георгии Вардоянце и других, обвиняемых в преступлениях, предусмотренных ст.
263, 266 и 268 улож о нак. При этом имею честь довести до сведения
департамента, что 5 сего апреля, в 8 часу вечера, во время перерыва заседания
по означенному делу, перед зданием судебной палаты собралась толпа учащихся и
других лиц, всего до 200 человек, которые кричали «Долой царя, долой
самодержавие», а затем с теми же криками и пением революционных песен направились
по Большой улице, при чем демонстрантами было разбросано более 600 экз.
прилагаемых при сем прокламаций иркутского комитета российской социал-демократической
рабочей партии от 6 сего апреля, из коих одна озаглавлена: «Суд идет», а
другая, без заглавия, начинается словами: «Сегодня, 5 апреля, апелляционный суд
над романовцами». Об этой демонстрации донесено министерству юстиции прокурором
иркутского окружного суда 6 сего апреля за № 670.
В судебном заседании по вышеупомянутому
делу некоторые подсудимые в конце судебного заседания пожелали дать объяснения,
в которых они старались отметить, главным образом, то, что апелляционная жалоба
принесена ими вовсе не с целью добиться оправдания или смягчения наказания, а
исключительно для придания настоящему делу большей огласки. При этом подсудимый
Игнатий Ржонца закончил свою речь приблизительно так: «Я не интересуюсь тем,
какой палата вынесет мне приговор, так же, как не интересовался я, какой
приговор постановит обо мне якутский суд, я знаю, что русское правительство не
освободит меня от наказания, но меня очень скоро освободит от него русский
народ, который только что кричал: долой самодержавие». После этих слов среди
присутствовавшей на заседании публики, допущенной по просьбе подсудимых,
раздались аплодисменты. Вследствие этого старшим председателем объявлен перерыв
заседания и сделано распоряжение удалить публику. По возобновлении заседания, в
виду заявления одного из защитников подсудимых, присяжного поверенного
Орнштейна, о том, что лица, нарушившие порядок, удалились, и что остальные, не
участвовавшие в этом, просят разрешения присутствовать при разборе дела, часть
публики была вновь допущена в зал заседания. При этом как подсудимым, так и
публике старшим председателем было сделано надлежащее внушение и разъяснено,
что при повторении беспорядков, виновные будут удалены и арестованы.
В последнем слове некоторые подсудимые
пытались заявлять о своей принадлежности к социал-демократической партии и
высказывать противоправительственного характера суждения, но были
останавливаемы старшим председателем, при чем двое из них были лишены права
последнего слова.
После провозглашения резолюции палаты и
закрытия судебного заседания среди подсудимых послышались протесты против
постановления палаты о представлении приговора на благоусмотрение государя
императора с ходатайством о смягчении их участи, раздались крики: «не хотим»,
«не надо», кто-то крикнул: «это не суд...» (последних слов разобрать было
нельзя) и «ура».
Других случаев, обращающих на себя внимание,
во время разбора настоящего дела не было.
В зале заседания, с разрешения старшего
председателя судебной палаты, присутствовали местные чины судебного ведомства,
военный следователь и присяжные поверенные. Число лиц, о допущении коих, на
основании ст. 622 уст. уг. суд., ходатайствовали подсудимые, в виду недостатка
помещения в зале заседания, было ограничено тридцатью четырьмя.
Прокурор судебной палаты (подпись).
Секретарь (подпись).
(Дело м. ю., 1905 г. № 1008, т. 1, арх. №
3028, стр. 133 и 134).
Приведем здесь же те две прокламации, о
которых упоминает сообщение прокурора иркутской судебной палаты от 7 апреля
1905 года:
Прокламация первая
[* Дело 1 департамента министерства юстиции, № 1108, т. I,
стр. 137.].
«Суд идет.
Сегодня самодержавие судит романовцев.
Судит сеятелей идей правды и добра!
Судит борцов за рабочее дело.
Судит героев, поднявших знамя борьбы в
суровой ссылке.
Сегодня самодержавие празднует свою
кровавую победу.
Сегодня...
Но... там... за Уралом, как ураган, несется
боевой клич:
Смерть тиранам! Смерть!
То рабочий класс восстает.
Непобедимый — он завтра вынесет смертный
приговор всем врагам народа. И гордый своей победой над царизмом, смело пойдет
к желанному социализму, к царству свободы и разума.
Да здравствует пролетариат!
Смерть тиранам!
Слава товарищам!
Иркутский Комитет Рос. Соц.-Дем. Раб.
Партии. 5 апреля 1906 г.».
Прокламация
вторая.
Российская
Социал-Дем. Рабочая Партия.
Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!
Иркутск, 5
апреля 1905 г.
Сегодня, 5 апреля, апелляционный суд над
романовцами. Романовцы — это группа политических ссыльных, осужденных на 12 лет
каторги за вооруженный протест против невыносимых условий жизни в ссылке.
Чем большие и большие силы выдвигала
социал-демократия для борьбы с самодержавием, тем сильнее последнее истязало
попавшие в его руки жертвы.
Разгоряченная фантазия исступленного
самодержавного правительства решила превратить ссылку в своеобразные казематы —
ссыльным запретили свидания с партиями новых товарищей, идущих в ссылку,
ссыльным запретили безусловно всякие отлучки в соседние селения, на каждых 3-х
ссыльных поставили шпиона с предписанием даже посещать квартиры ссыльных и т.
п. Новые товарищи были почти единственным источником, откуда ссыльные узнавали,
что делается в России, как идет невольно оставленное дорогое дело. Циркуляры
лишили и этого единственного источника. Ссылка в неприветливые дебри и тундры
Сибири, очень тяжелая сама по себе, при таких условиях становилась пыткой. Мало
того, правительство превратило ссылку в могилу, оно отказалось возвращать
ссыльных в Россию на счет казны, и этим многих из них обрекла на вечное
изгнание в Сибири.
Точно из рога изобилия сыпался циркуляр за циркуляром,
и трудно было предвидеть, до каких глумлений над ссыльными дойдет самодержавие.
Ссыльные протестовали неисполнением циркуляров, за что подвергались аресту или
новой ссылке в более отдаленные места. Протесты одиночек, разбросанных по селам
и улусам, оказывались бессильными. Требовалось соединиться: сила только в
единении. И вот из якутских улусов, даже из тундр Колымы и Яны, потянулись
революционеры в Якутск. Здесь они в числе 56 челов. забаррикадировались в доме
обывателя Романова (отсюда и получилось прозвище «романовцы»), вооружились и
через делегата предъявили свои требования. В ответ на эти требования дом
Романова был окружен солдатами и подвергнут обстрелу. Осада Романовки длилась
18 дней и кончилась сдачей романовцев. Солдаты выпустили 2.000 пуль, убили
товарища Матлахова и троих ранили; дом превратили в решето. Не достигнув
намеченной цели — перебить романовцев при осаде — самодержавие нарядило над
ними судебную расправу, которая вынесла заранее предрешенный варварский
приговор.
Большинство романовцев подали апелляционный
протест, но, конечно, не с целью получить смягчение приговора, а чтоб перенести
процесс в другие места и тем дать ему более широкую огласку и, таким образом,
предать народному суду преступное самодержавие. Это апелляция не к суду, а к
народу и, прежде всего, к рабочему классу.
Самодержавие расправилось с романовцами, но
как дорого обошлась ему эта расправа. Пресловутые циркуляры, против которых
боролись романовцы, пришлось отменить, — самодержавие расписалось в своей
несостоятельности. На далеком севере группа смелых изгнанников подняла знамя
борьбы с самодержавием и одержала победу.
Протест романовцев будет блестеть на
страницах русской революционной истории, как снег при северном сиянии в том
крае, где романовцы воздвигли первый революционный форт. Русский пролетариат
чтит в романовцах своих передовых борцов. Сегодня этих борцов судит
самодержавие... Сегодня еще его день. А завтра... завтра русский народ с
сознательным пролетариатом во главе вынесет смертный приговор самодержавию.
Смерть тиранам!
Слава товарищам!
Иркутский Комитет Р.С.-Д.Р.П. Апрель 1905
года.
(Дело м. ю., 1905 г., № 1008, т. I, арх. №
3028, стр. 138).
---
От трагического перейдем к смешному.
Читатель, конечно, помнит, как распинался
Кутайсов сравнительно незадолго до революционного 1905 года за царя и престол,
как взывал он к крутым мерам против «этих негодяев» (ссыльных), без каковых мер
ничего не сделать. А вот каким либеральным языком заговорил этот сатрап в
августе 1905 года.
Как известно, иркутская судебная палата,
рассмотрев апелляцию части романовцев [* Как известно, романовцы по вопросу об апелляции
раскололись: большая часть из них подала апелляцию, а меньшинство от таковой
отказалось, и для него приговор якутского окружного суда вошел в силу.],
оставила в силе приговор якутского окружного суда, но вместе с тем постановила
ходатайствовать перед государем о смягчении этого приговора и о замене
каторжных работ 2-летним тюремным заключением. Судебная палата возбудила такое
ходатайство только по отношению к тем романовцам, которые апеллировали, но в
министерстве юстиции был поднят вопрос о том, — не распространить ли это
смягчение участи и на остальных участников Романовской истории. Министр юстиции
запросил на этот счет мнение Кутайсова. Вместе с тем министр просил Кутайсова
высказаться также относительно некоторых романовцев, которые успели убежать из
тюрьмы, — распространить ли и на них смягчение приговора. Наконец, министр
юстиции счел нужным обратить внимание Кутайсова на то, что подсудимые своим
поведением на суде, может быть, дали повод к тому, чтобы не ходатайствовать о
смягчении их участи. По поводу последнего вопроса министр юстиции, сенатор С.
Манухин, пишет Кутайсову следующее:
«...К сему считаю необходимым
присовокупить, что, по доставленным прокурором иркутской судебной палаты
сведениям после провозглашения иркутскою судебною палатою той части приговора
5-6 апреля 1905 г., в которой ею было постановлено ходатайствовать перед его
императорским величеством о смягчении участи подсудимых, в группе
присутствовавших на суде осужденных раздались крики о нежелании их
воспользоваться испрашиваемою судебною палатою милостью и выражены были
протесты против постановления по сему предмету палаты. Кроме того, в обращенном
в министерство юстиции прошении от 9 апреля 1905 года осужденная Песя Шрифтейлиг
заявила, что она подтверждает выраженный ею на суде протест против
предположенного судебною палатою облегчения ее участи.
Подп.: министр юстиции, сенатор С. Манухин.
И. д. директора (подпись)».
(Дело м. ю. 1905 г., № 1008, т. I, арх. №
3028, стр. 181-об.).
Словом, министр как бы делает положение для
Кутайсова затруднительным, как бы подсказывает ему необходимость сдержанности в
отношении смягчения приговора для романовцев: и не все они апеллировали, да и
те, кто апеллировали, отказались от царской милости, а некоторые показали себя
недостойными этой милости тем, что, не дождавшись ее, убежали. Но обуявшего
Кутайсова духа либерализма ничто сломить не может: он, вопреки всяким сомнениям
и намекам министра юстиции, упорно стоит за возможно более полное смягчение
участи всех романовцев. Вот что пишет он в ответ министру юстиции 25 августа
1905 года [* Дело
министерства юстиции, 1905 год, № 1008, т. I, стр. 184-185.]:
«При личном свидании в Петербурге я имел
уже случай высказать вашему высокопревосходительству... свое мнение о
справедливости и желательности возможно большего смягчения участи указанных
выше осужденных и в настоящем отзыве я могу только еще раз подтвердить этот
высказанный взгляд, основывающийся на том, что якутский инцидент представляется
не более, как одним из проявлений того протеста против существующего
административного режима, который в последнее время с большей или меньшей силой
обнаруживается почти во всех местностях империи. Снисходительное теперь
отношение правительства к таким проявлениям могло бы служить вполне достаточным
основанием для смягчения кары, постигшей группу лиц за демонстративное
выражение протеста почти накануне новых веяний».
Переходя к сомнениям министра относительно
бежавших и т. д., Кутайсов продолжает:
«Не должны быть изъяты от льгот ни бежавшие
Бройдо и Рубинчик, что, разумеется, не избавляет их от дополнительного
наказания, за побег налагаемого, в размере, согласованном с новой, могущей быть
определенной им по высочайшему усмотрению карой, ни отбывший уже срок наказания
по судебному приговору Никифоров, которому монаршая милость может возвратить в
той или иной степени утраченные им права.
Что касается затем указываемого прокурором
палаты протеста осужденных против ходатайства палаты о смягчении их участи, то
таковому, по моему мнению, нельзя придавать серьезного значения. Во-первых,
демонстративные возгласы некоторых, находившихся на скамье подсудимых, лиц не
должны отражаться на судьбе всех осужденных и, во-вторых, самая демонстрация
эта в значительной степени могла быть объяснена желанием повлиять возбуждающим
образом на умы толпы, массою окружавшей во время процесса здание судебных
установлений, чего, конечно, можно было бы избежать путем рассмотрения дела вне
Иркутска — в месте содержания под стражей подсудимых. Наконец, самая высшая
судебная инстанция в империи есть самодержавный государь, от воли которого и
зависит постановить свой окончательный приговор о преступниках, безотносительно
не только к их собственным желаниям, но и к определению судебной палаты.
Признавая по всем вышеизложенным
соображениям справедливым и весьма желательным возможно большее смягчение
участи всех лиц, осужденных за вооруженное восстание против властей в г.
Якутске, сообщаю об этом вашему высокопревосходительству.
Генерал-губернатор, член государственного
совета, сенатор, почетный опекун, генерал-от-инфантерии граф Кутайсов.
Управляющий канцелярией, камергер двора е.
в. (подпись).
Делопроизводитель (подпись)».
(Дело м. ю., 1905 г. № 1008, т. I, арх. №
3028, стр. 185).
Любопытно, что, разбирая все доводы и
сомнения министра юстиции, Кутайсов совершенно не реагирует на замечание
последнего относительно письменного протеста романовки Песи Шрифтейлиг. А надо
сказать, что ее письменный протест был такого рода, что в другое время он сам
по себе должен был быть сочтен за весьма крупное преступление. Вот что писала
она в заявлении на имя министра юстиции 9 апреля 1905 года:
«В
палате, в своем последнем слове, я протестовала против: этого обращения к
высочайшей милости и требовала занесения моего протеста в протокол. Подтверждая
свой протест на суде еще раз вашему высокопревосходительству, я заявляю, что на
царскую власть и ее органы смотрю, как на врагов народа и народного
благосостояния, царской «милости» предпочитаю каторжные работы, а игнорирование
этого моего заявления буду рассматривать, как новый акт нравственного насилия
над собой» [* Дело
первого департамента министерства юстиции 1905 года, № 1003, стр. 146.].
Такое оскорбление величества никакого
влияния не оказывает на Кутайсова 1905 года. Было время, когда Кутайсов был более
ревностным верноподданным. Это было в семидесятые годы прошлого века, когда
Кутайсов был нижегородским губернатором и получал неоднократно выражение
высочайшего «благоволения» за полезную деятельность по взиманию податей и
выкупных платежей. В одном из своих докладов того времени Кутайсов, сообщая о
произнесении такими-то лицами неблагопристойных выражений по адресу царя,
писал: «Людей этих я засадил в острог, но не могу совершенно откровенно не
сознаться, что мне гораздо приятнее было бы видеть, что народ, при этом
присутствовавший, разорвал их на части и тем убедил бы меня в том, чего я
желаю, т.-е., что на Руси царя трогать не смей» [* Дело по канцелярии министра внутренних дел, 1873 г., №
2573, стр. 28.].
Впрочем, и в то время Кутайсов относился ревностно
не только к чести царя, но и еще к некоторым «более низменным» вещам: в
канцелярии министра внутренних дел значится по 1878 году дело о заказе графом
Кутайсовым, генерал-майором Нижегородской губернии, на счет сумм полиции
изящного парохода...
Приложение.
Ленинградский центральный
исторический архив. Архивохранилище № 2.
(Архив
б. министерства внутренних дел).
Выписка из всеподданнейшего отчета
якутского губернатора за 1903 год.
Стр. 7.
...Еще большее обременение представляет для
области чрезвычайно увеличившаяся за последнее время ссылка сюда
политических-поднадзорных.
До 1903 года в области находилось этой
категории ссыльных 115 чел., которые распределялись, главным образом, в городах
и более значительных русских селениях, где имеются полицейские чиновники
(земские заседатели). Со второй половины отчетного года высылка настолько
усилилась, что в настоящее время в области считается уже около 380 поднадзорных
и ожидается вновь назначенных более 200 чел.
Вследствие исключительного положения
области, зависящего от природных ее условий, отсутствия постоянных правильных
путей сообщения, разбросанности и своеобразной жизни населяющих ее инородцев, в
распределении массы прибывших в 1903 г. политических ссыльных и надзоре за ними
встретились весьма большие затруднения.
Города
области крайне малолюдны; незначительное крестьянское население, состоящее из
восьми волостей, расположено почти исключительно по р. Лене и судоходному
притоку ее Вилюю, — главным путям, по которым возможны и удобны побеги
поднадзорных; размещать же их в среде инородческого населения почти невозможно,
в виду исключительных, своеобразных условий его жизни.
Вся масса этого населения, в
противоположность другим инородцам Сибири, живет не селениями, а отдельными
дворами (стойбищами), разбросанными на громадном пространстве, нередко на
десятки и сотни верст один от другого. Обыкновенное жилище якута составляет
юрта из двух отделений, разделяемых перегородкою на жилье людей и хлев
домашнего скота; освещается юрта вместо окон кусками льда и очагами, служащими
и печами. Запасные юрты встречаются лишь изредка у немногих богатых инородцев.
Пища инородцев столь же примитивна, как и жилища, и состоит часто только из
рыбы и конины или оленины; достать главнейшие даже предметы довольствия можно
только в городах или русских селениях, отстоящих от инородческих стойбищ иногда
на сотни верст; медицинская помощь, по незначительности врачебного персонала,
почти отсутствует, между тем, большинство ссыльных прибывает сюда с надорванным
здоровьем, и, нуждаясь в лечении, настоятельно ходатайствует о водворении в
пунктах, где есть врачебная помощь. Сами инородцы чрезвычайно неохотно, почти
насильственно только, принимают к себе ссыльных, боятся их и употребляют все
меры, чтобы избавиться от нежелательных жильцов, даже до содействия их побегам.
При огромных расстояниях области, почти
исключительно вьючных трактах и разбросанности инородческих стойбищ, активный
надзор за политическими ссыльными почти невозможен ни для небольшого числа
полицейских чиновников, ни даже для особых надзирателей, заведывающих районами
распределения ссыльных на десятки и сотни верст; инородческие же начальники не
только неграмотные, но в большинстве и не знающие русского языка, совершенно
непригодны для целей надзора. К этому необходимо добавить, что летом с
северными округами существует только тяжелое верховое сообщение, к которому
способны очень немногие ссыльные, поэтому прибывающие в область сплавом по р.
Лене поднадзорные, до отправки зимою на север, должны задерживаться в Якутском
округе на несколько месяцев, переполняя собою и Якутск и ближайшие селения;
зимой же, при существовании по Верхоянско-Колымскому тракту только двух пар
лошадей и расстояниях между станками в сотни верст, могут отправляться лишь но
два человека, через 5-7 суток. В виду изложенных исключительных условий,
совершенного почти заполнения политическими ссыльными тех пунктов, где можно
было найти сколько-нибудь пригодные для них помещения, и участившихся побегов
этих ссыльных, которые невозможно предупредить, я в нескольких представлениях
иркутскому генерал-губернатору вошел с ходатайством если не о совершенном
прекращении, то хотя бы о возможном уменьшении дальнейшей высылки в область
политических поднадзорных.
/В якутской неволе. Из истории политической ссылки в Якутской
области. Сборник материалов и воспоминаний. [Историко-революционная библиотека
журнала «Каторга и Ссылка». Воспоминания, исследования, документы и др.
материалы из истории революционного прошлого России. Кн. XIX.] Москва. 1927. С.
136-161./
УШЕДШИМ «РОМАНОВЦАМ»
Павел Исаакович Розенталь.
(П. Роль, Анман.)
1872-1924.
С П. Розенталем меня тюремная судьба
столкнула еще до Романовки — в 1903 г. — в Бутырках. Он был здесь до некоторой
степени старожилом, я — «проездом» — по пути в Сибирь. Он уже свыше года был
оторван от революционной жизни, я был почти только что «оттуда». У меня было
много о чем рассказать, особенно ему, так как мне пришлось продолжать его
работу, прерванную его арестом весной 1902 г. Я мог ему рассказать об
оставленном им нелегальном Всероссийском Союзе кожевников, о месте его
революционной работы — рабочем Белостоке, о пятой конференции «Бунда»,
состоявшейся без его обычного участия, об отношениях «Бунда» и партии, о
вспышке террористической мысли в связи с историей Леккерта и т. д. и т. д.
Мы жили в разных башнях Бутырской тюрьмы:
он — в Северной, я — в Часовой. Списавшись с ним нелегально, я «стал» его
родственником и получил с ним и сидевшей тут же его женой Анной Владимировной
(я уж не помню, чьим я был родственником — Анны или Павла) легальное свидание.
Рассказывал, конечно, я; Павел слушал, вставляя порой свои замечания. И
все-таки у меня уже тогда сложилось о нем довольно определенное представление:
человек трезвого ума, не любящий фраз, уверенный в своей исключительной
правоте, нетерпимый к «глупостям», из тех активных натур, у которых время, не
пройдет даром ив тюремном аду.
В последнем качестве я имел еще большую
возможность убедиться, когда проводил с ним зиму 1904-05 г.г. в Александровской
пересыльной тюрьме. Нас было в одной камере человек 25-30. Койка около койки.
Они окаймляли камеру с двух сторон, между ними оставалось не очень большое
пространство. Наш читатель знает тюремные нравы. Здесь господствует принцип:
«Стану я стесняться в собственном отечестве». Один рассказывает, другие громко
смеются, третьи «шалят», четвертый запел, лежа в кровати. У Павла «позиция»,
правда, «удобная»: он занимает угловую койку. Тесное соседство у него с одной
только стороны. Он смастерил себе с другой стороны полочку-столик. Под громкий
хохот, под шумные песни сидит он за своим столиком, спиной ко всем, и пишет,
пишет...
Так он написал в Московской тюрьме в 1902
г. книжку о шифрах; в Александровской тюрьме он писал: «Как происходили революции
в Зап. Европе». В Москве — это было еще до южнорусской забастовочной волны 1903
г. — Павел дает урок конспиратору-революционеру, поясняя ему, как жандармы
познают все его тайны от его неумелого пользования шифром. Когда же до тюрьмы
донесся шум 9-го января, Павел готовит наглядные исторические уроки о том, как
следует совершать революции и строить баррикады. Тюрьма не отрывает Павла от
тех, кто пишет шифрованные письма и строит баррикады там, на воле; со
свойственной ему нетерпимостью он жестоко, осуждает тех, кто предается хотя бы
в каторжной тюрьме нытью, и безделью...
Когда мы в 1905 г., — мы все, и Павел,
может быть, больше, чем многие другие, — рвались туда, откуда приходили
известия о «диктатуре сердца», о митингах, забастовках, баррикадах, Павел писал
историю, как «происходили»... Да, Павел был историк, но своеобразный историк.
Его не ослеплял блеск вещей, он всегда хотел добраться до их «нутра». Он был аналитиком
раr ехellеnсе. Я его позже видал, когда он занимался аналитическими работами в
своем химико-бактериологическом кабинете. Я помню с какой тщательностью,
методичностью и любовью он делал эту работу. К революции, он подходил с тем же
«холодным» анализом. Проникнутый строго марксистским миросозерцанием, он каждый
раз возвращался от современности к истории, чтобы там ковать оружие для
современности. Под грохот валящихся в Питере телеграфных столбов и
«потемкинских» пушек в Одессе он изучал революции 1848 и даже 1789 г.г., чтобы
узнать, как следует строить баррикады и как стремиться к братанию с солдатами...
Но Павел не только изучал историю,
революции, он ее делал в течение трех десятилетий!
* * *
С тюрьмой Павел впервые познакомился в 1893
г. [* П. Розенталь
родился 22 мая 1872 г. (ст. ст.) в г Вильне. До девяти лет он учился в
«хедере», а с 1881 г. до 1890 г. — в гимназии, по окончании которой поступил в
университет на медицинский факультет.]. Будучи студентом Харьковского
университета, он был арестован [* Он был привлечен к дознанию по делу о «водворении в г.
Варшаву политической контрабанды».], исключен из университета и после
шестимесячного тюремного заключения, выслан на родину, в Вильно. Здесь в это
время шла живая кружковая работа среди еврейских рабочих, здесь закладывался
камень еврейского рабочего движения, и Павел примкнул к последнему: он
руководит рабочими кружками и становится активным работником, так называемого,
«жаргонного комитета».
Любопытная была эта организация: нелегальное сообщество,
имевшее целью распространение среди еврейских рабочих легальной еврейской
литературы. Пробудившиеся слои еврейских рабочих предъявляли большой спрос на знание,
на книжку. Кое-кто из еврейских легальных писателей пошли навстречу этой жажде;
появились художественно-агитационные рассказы, эзоповская политическая
публицистика, первые книжки по естествознанию на доступном массе языке. Надо
было приблизить эту литературу к рабочему читателю, надо было позаботиться об
ее увеличении. Вот эти задачи и взял на себя «жаргонный комитет», одним из
организаторов и руководителей которого был П. Розенталь. Комитет содействовал
появлению новых книг и распространению их далеко по провинции через
библиотечки, которые при его помощи основывались нелегально при тайных
профессиональных и политических ячейках.
А затем начинается белостокский период
Павла, который он частью описал несколько лет тому назад в «Красном Архиве» (на
еврейском языке). В Белостоке он поселился в 1899 г. Если Вильно 93 г. было
центром революционной кружковщины, то Белосток второй половины 90-х годов был
уже городом с большой массовой работой, преимущественно, правда, экономической.
Здесь уже в августе 1895 г. вспыхнула всеобщая забастовка ткачей, в которой
участвовало свыше 25 тысяч рабочих. Забастовочная волна не прекращалась, и в
1898 г. мы опять встречаемся здесь с большой забастовкой ткачей. Оставалось
только вносить в это растущее массовое движение элементы организованности,
социалистического сознания и политической борьбы. Вот эта задача и выпала в
частности на супругов Розенталь, которые вместе с небольшой группой активных
революционных работников ее успешно выполняют. В 1901 г. в Белостоке имела
место (2-го марта) первая демонстрация на похоронах одного рабочего [* Лейзера Тумчина.].
В
качестве одного из главных руководителей белостокского комитета «Бунда» Павел
проявил большие способности конспиратора-организатора и пропагандиста. Не надо
забывать, что Павел был в Белостоке практикующим врачом, что, казалось бы,
должно было сильно затруднить его непосредственные сношения с рабочими,
особенно в таком сравнительно небольшом городе, как Белосток. Он ухитрялся,
однако, при помощи всяких проходных дворов [* Их и в мое время было бесчисленное множество, и они
давали возможность мне, поднадзорному, не раз обманывать бдительность
надзирающих.], и переулочков пробираться на рабочие, квартиры и на
«сходки» в соседнем лесу. Когда я после ареста Розенталей был «мобилизован»
Центр. Комитетом «Бунда» для работы в Белостоке, я имел возможность убедиться,
как был популярен среда лучших рабочих «доктор Носон» (Носон было
конспиративное имя Павла; что он был доктором, многие рабочие узнали только
после его ареста).
Живя в Белостоке, Павел расширяет
территорию своей деятельности за пределы города. В это время зарождается и
формируется всеобщий союз кожевников, который в идее должен был стать центром
русских, польских и еврейских кожевников всей России (вместе с Польшей и
Литвой). Павел становится активным работником этого союза. «С особым рвением, —
рассказывает жена Павла, Анна Владимировна, — он отдался основанию союза
кожевников, потому что это должен был быть первый интернациональный союз. Он
сам составил манифест и ездил в Вильно для переговоров с польскими кожевниками».
Он, между прочим, — член организационной комиссии по выработке конституции
союза (зимой 1900 г.) и автор «(Манифеста Всеобщего Федеративного Союза
Кожевников», изданного в 1901 г. на трех языках и напечатанного также в
«Искре».
Около того же времени Павел входит в
центральную руководящую группу «Бунда». Он становится постоянным работником
центр, органа «Бунда»: «Арбейтер-Штимме» («Раб. Голос»), где он с осени 1900 г.
ведет отдел: «Из темного царства», в котором он систематически знакомит рабочую
массу с ужасами и «бытовыми явлениями» царской России. Около этого же времени
его кооптировали в состав Ц.К. «Бунда», где он становится организатором,
литератором и теоретиком движения, не пренебрегая в то же время и «черной»
технической работой.
Это сочетание, интеллектуального руководства
и простой техники вообще характерно для облика Павла. Во время упомянутых выше
демонстративных похорон в Белостоке он не только написал речи для ораторов и
выработал маршрут демонстрации, но сам сделал надписи на лентах. Руководя
работой «Бунда» в качестве члена его Ц.К., он находил время для упаковки и
замаскирования чемоданов с нелегальной литературой, которую доставляли из-за
границы в Белосток и отсюда рассылали по разным городам.
Свои организаторские способности Павел
проявляет, в частности, в устройстве четвертого съезда «Бунда» в Белостоке, в
мае .1901 г., на квартире одного ткача Давида (фамилию не помню). Здесь Павла
выбирают в Ц.К., и он вместе с другим членом Ц.К. (Н. Портной) издает скоро
отчет съезда на еврейском, русском и польском языках, который расходится в
большом количестве экземпляров. К тому же, приблизительно, времени относится
другая литературная работа Павла — «Призыв к еврейской интеллигенции», который
должен был привлечь внимание «общества» к героической борьбе еврейского рабочего.
Призыв вышел на трех языках и выдержал много изданий.
В
начале 1902 года Павел испытывает свои организаторские способности на
общепартийном поприще: подготовляется весенняя белостокская конференция
Р.С.-Д.Р.П., которая должна была создать единую организованную партию. Павел
всегда живо чувствовал необходимость сплоченной борьбы еврейского и
всероссийского пролетариата, и он, как представитель Ц.К. «Бунда», весь
отдается осуществлению единства организованной соц.-демократ. партии.
Конференция, действительно, имела место в Белостоке в конце марта 1902 г.,
Павел принимает в ней активное участие, но приехавшие делегаты притащили за
собой шпионов, и в результате — провал Павла и его жены 31-го марта 1902 года.
Начинается тюремная жизнь в Гродне и
Москве, полная борьбы и боевых голодовок (Павел был сторонником острой, если
это вызывается обстоятельствами, борьбы в тюрьме и резко осуждал тюремных
сожителей за отсутствие выдержки в голодовках и др. подх. формах борьбы) и
вместе с тем литературной и самообразовательной работы. Еще до тюрьмы Павел
обратил внимание на неудовлетворительность тогдашних шифров, и он вместе с Неахом
Портным реформировали употреблявшийся «Бундом» шифр, введя смешанный
еврейско-русский ключ. Тюремный досуг Павел использовал для составления брошюры
— критики употребляемых шифров — изданной «Бундом» в Женеве.
Долгое тюремное заключение (15½ месяцев)
кончается для обоих Розенталей ссылкой на 6 лет в Якутскую область. Здесь мы с
ним снова сталкиваемся, и я наблюдаю, как его живая натура требует работы.
Организуются при нашем участии две нелегальные группы, одна — помощи побегам,
другая — для составления нелегальных брошюр, но обе не успевают развернуть
своей работы. Наступает «Романовка».
Павел был одним из ее инициаторов. У него
на квартире, в селении Маган, состоялось 11-го февраля наполовину случайное
собрание 8-9 будущих «романовцев», где сошлись на баррикадной форме протеста
(см. «Романовка» Розенталя, гл. II).
На Романовке я имел возможность наблюдать
неустрашимость Павла, его отвращение к позе и фразе и беззаветную
непоколебимость. Помню, как он под градом пуль, во время обстрела, пробирался
из своей половины в нашу к моему раненому соседу — А. Костюшко. Лицо, его было
искажено от озлобления, и губы его шептали: «трусы, подлецы» по адресу
обстреливавших нас без всякого повода с «защитного расстояния».
В тот же день произошел первый раскол «Романовки»
по вопросу о сдаче. Мы с ним принадлежали к разным лагерям, но не могу, не
отдать должного его непоколебимой стойкости и непримиримой нетерпимости. Он был
главным противником сдачи. «Что случилось такого, что, вдруг поднимают вопрос о
сдаче?» — спрашивал Павел, обводя противников взглядом, полным гнева и, по обыкновению,
легкого пренебрежения к инакомыслящим (за что его порой не любили). «Мы думали,
что нас возьмут силой уже в первый день: солдаты ворвутся и перестреляют, как
куропаток. Вместо этого нам дали сидеть 17 дней, а теперь нас расстреливают
издалека по одиночке. Это, конечно, худшее испытание для нервов, но аргументацией
от нервов нельзя решать такие вопросы»...
Для выдержки и исторического уклона Павла
характерно, что он составил и сохранил точную запись поданных поименно голосов
за и против сдачи (см. «Романовка», стр. 66-67).
Еще
одно воспоминание осталось у меня в памяти о Павле в связи уже с нашим судебным
процессом в Якутске. Павел выступил на суде в числе прочих он, вообще, далеко
не был оратором, кажется даже, что был момент, когда суд заподозрил, что он не
говорит, а читает с бумажки, и усмотрел в этом нарушение процессуальных
формальностей. Но чуждая риторики и блеска речь Павла была так богата
аргументами, так красноречива цифрами и материалом, что вызвала неприятное
ощущение кое у кого из судей и покоряла своей убедительностью.
Романовка, наконец, находит в Павле своего
первого историка. Из тюрьмы пересылает он заграничному комитету «Бунда»
материалы о якутском протесте и процессе, которые были изданы в Женеве в
четырех брошюрах.
«Некоторые из участников, — пишет П. Розенталь
в предисловии к «Романовке», — имели тесную и непрекращающуюся связь со своими
организациями и посылали им незамедлительно для печати корреспонденции и
всяческие документы». Это относится преимущественно к самому Розенталю, который
все время поддерживал самую деятельную переписку с заграничным комитетом «Бунда»
и, в свою очередь, получал от него письма, «Последн. Известия» и т. д.
Здесь же, в тюрьме, он написал брошюру о
политических Процессах и книгу в двух частях о том, как происходили «революции
в Зап. Европе. Книга появляется на русском и еврейском языках в разгар
революционного 1905 г., когда ее автор еще следил только за ходом российской
революции из-за тюремной решетки.
П. Розенталь был приговорен, как и другие
романовцы, к 12-ти годам каторги. Вместе с остальными он был переслан после
приговора из Якутской тюрьмы в Александровскую пересыльную. Вот как описывает
Павел нашу новую обитель: «Мужчины были набиты, как сельди в бочке, в двух
камерах, разделенных сенями. Койки стояли вплотную одна около другой в два
ряда, с узеньким проходом. Помню, как в первое же утро проснулся на рассвете
Моисей Лурье, поднялся во весь свой длинный рост на своей койке и буркнул:
«Черт возьми, плюнуть некуда!» Но вот 12 человек перешли в централ, несколько
человек — в больницу. «Таким образом, стало просторнее — продолжает свои воспоминания
Павел. — Я примостился в дальнем углу нашей камеры, соорудил себе между койкой
и стеной столик из своих якутских ящиков (заменяющих чемоданы) и был в
состоянии беспрепятственно читать и работать, каков бы ни был шум и гомон в
камере; я задумал тогда работу на тему: «Как происходили революции в Западной
Европе», первый выпуск которой уже через полгода вышел в Женеве, в издании
заграничного комитета «Бунда», под псевдонимом «П. Анман», а второй — в октябре
1905 года, накануне октябрьской забастовки. Работа меня занимала, и я не
тяготился тюрьмой».
Но вот октябрьская забастовка, общая
амнистия, специальная амнистия для «романовцев» (общая нас не коснулась), и
Павел опять у себя на родине, в своей Вильне, в своем «Бунде». Он становится
постоянным сотрудником, а скоро и членом редакции, первых легальных газет
«Бунда»: «Векер» и «Фольксцейтунг», в которых он играет роль передовика и
вообще «тяжелой артиллерии». Весной 1906 года он участвует в качестве делегата
от редакции Центр. Органа в VII бернской конференции Бунда. Центральным
вопросом на этой конференции является обсуждение условий вступления «Бунда» в
Р.С.-Д.Р.П., от которой «Бунд» откололся в 1903 г. Наша бундовская группа в
Якутске и Павел, в частности, относились все время болезненно к нашему выходу
из партии. Революция 1905-06 годов еще больше подчеркивала ненормальность
нашего обособленного существования. На конференции мы занимаем крыло наиболее
уступчивых («мягких», как прозвали нас) по отношению к Р.С.-Д.Р.П., и Павел
выступает докладчиком от имени этого крыла.
Розенталь первый поднял еще задолго до конференции
в прессе, вопрос об объединении «Бунда», с Партией. 6 конце января 1906 г.
появилась в газете «Бекер» его статья под заглавием: «Бунд и Р.С.-Д.Р.П.». В
этой статье проводилась мысль, что во время революции «Бунд» не может остаться
оторванным от Российской партии. Статья вызвала живой отклик; в редакцию
посыпался ряд писем. Газета откликнулась редакционной статьей, смысл которой был
таков, что нет надежды на объединение...
За объединение с партией он продолжает
вести борьбу и после, конференции на страницах газеты.
Тут же в Берне Павел, кажется, по своей
инициативе созывает группу фактически и потенциально пишущей братии из среды
делегатов конференции и горячо убеждает взяться за составление серии популярных
книжек агитационно-пропагандистского характера. Намечаются темы и
распределяются работы; Павел со свойственной ему поразительной
работоспособностью не может понять, как это не найдется у нас времени для этой
важнейшей, по его мнению, работы дня по углублению социалистического и
политического, сознания масс.
Как участник совещания, я должен, однако,
констатировать, что почти никто из участников не выполнил взятых на себя
обязательств: партийная и профессиональная работа этого кипучего, периода
отвлекала нас от «кабинетной» работы. У Павла же, по горло занятого
редакционной газетной работой (в течение почти 2-х лет он помещал регулярно
через день передовицы, не говоря уже о других статьях и чисто редакционной
работе), отыскивалось время и для брошюрной работы. (От местной партийной
работы он, как и другие газетные работники, был устранен, чтобы не привлечь
внимания охранки к органу и — с другой стороны — не дать нитей к полулегальной
организации шпионам, наблюдавшим за редакцией).
Когда начался спад революции 1905 г., стали
усиливаться анархические течения. Я лично столкнулся с ними в острой форме уже
во время декабрьской забастовки 1905 г. в Белостоке. В 1906 г. росло количество
экспроприаций, и вопросы анархизма и его тактики привлекали к себе всеобщее
внимание. В это время появилась брошюра Павла на тему: «Роль люмпенпролетариата
в революции», на русском и еврейском языках. В своих воспоминаниях об этом
периоде Павел рассказывает следующее:
Максимова (др. бундовца) чуть не побили за
то, что его приняли за автора этой брошюры. Это случилось тогда, когда его
арестовали в Одессе. Кто-то пустил слух, что он — этот автор, и арестованные
хотели с ним посчитаться в тюрьме за его отношение к люмпенпролетариату.
В апреле 1920 г., — рассказывает далее П.
Розенталь, — ему пришлось ехать из Нежина в Киев в одном вагоне с т.
Серафимовым, б. т. «Прокопом», б. командиром 12-й армии, членом Президиума
Украинского ЦИК’а. Когда он узнал, что Розенталь пишет под псевдонимом «П.
Роль», он сказал, что читал в свое время брошюру: «Роль люмпенпролетариата».
«Она оказалась для меня, — сказал он, — очень полезной: когда я вел борьбу с анархистами
на Юге России в 1906-07 г.г., я ее всячески использовал» [* Сборник: «25 лет»,
Варшава, 1928, стр. 81.].
Не будем больше подробно останавливаться на
литературной работе П. Розенталя, хотя она составляла главное содержание жизни
его от 1905 года до его смерти. Упомянем только некоторые из его работ:
Ряд мемуаров из истории революционного
движения.
«Романовка». Исторический очерк, вернее,
мемуары участника.
«Борьба за колонии и мировые пути».
Остаются еще не напечатанными:
«Бунд» в освещении охранки».
«Охранка о деятелях Бунда».
«Как воюют революций» и пр.
Во время империалистской войны П. Розенталь
работает на войне в качестве врача. Революция 1917 г. застала его на фронте, где,
наблюдая последний непосредственно, он убеждается в несостоятельности всяких разговоров
об обороне. С таким настроением он приезжает в 1917 году в Петроград, где он
участвует на Бундовском съезде декабря 1917 г. и входит в Центральный Комитет
«Бунда», как представитель левого течения. Дальнейшие события, однако, меняют
его направление, он перестает участвовать непосредственно в политической жизни,
уходит в научно-литературные занятия и, наконец, возвращается к себе в Вильно.
В последние годы своего пребывания в
России, на Украине, П. Розенталю приходилось быть очевидцем оргий и погромов
деникинцев. Вот один из эпизодов, ярко характеризующий Павла, описанный его
женой, постоянной деятельной его сотрудницей во всех революционных перипетиях
его жизни, Анной Владимировной.
— Киев, ноябрь 1919 г., погром деникинцев.
Мы живем у домовладельца, бывшего богатого купца. На дворе показалось несколько
вооруженных солдат. Они всматриваются в наши окна. Павел догадывается, что они
скоро явятся. Он быстро придвигает тяжелый шкаф и закрывает им дверь. Солдаты
стучат, грозят, что будут стрелять. Павел велит нам всем молчать, а сам
поддерживает шкаф плечами. Солдаты уходят, пытаются войти через черный ход, но
Павел и здесь их не впускает. Скоро он организует часовых при входе в дом, и
сам остается на посту всю ночь. Посреди ночи опять стук: деникинцы-офицеры
будто хотят войти к одному из соседей, своему знакомому офицеру, который потом
тоже оказался погромщиком. Павел их не впускает. Они собираются стрелять.
Кругом все кричат, особенно соседи-христиане: впустите их... Павел никого не
слушает, отталкивает тех, кто хочет отодвинуть засов, и говорит офицерам:
«стреляйте». Это повторялось несколько раз в ту и следующие ночи... Павел, — заканчивает
Анна Владимировна, — был убежден, что погромы не приняли бы такого ужасного
характера, если бы евреи оказывали должное сопротивление.
П. Розенталь работал в это время в
погромном комитете при Красном Кресте. Он каждый день выслушивал живых
свидетелей погромов и прочитал множество письменных отчетов. Он поглощен мыслью
— ознакомить широкие не еврейские массы с позорными ужасами погромов. И как
всегда, он приступает к этой задаче основательно: он собирает, копирует и
систематизирует погромные материалы, связывается с одним русским беллетристом,
который должен, по его мысли, облечь «сухие» материалы в плоть и кровь, Он
пишет вступление, составляет карту разгромленных пунктов, целые часы проводит с
этим писателем, стремясь создать у него соответствующее настроение и понимание.
Почти целый год он посвящает этой работе; он остается недоволен тем, как этот
писатель выполнил поставленную задачу. Собранные же и систематизированные им материалы
часто цитируются в разных изданиях без всякого о нем упоминания; Это, однако,
его не интересует: он не стремится восстановить свое авторское право...
В 1921 г. П. Розенталь возвращается в
Вильно. Здесь начинается новая эпоха в его научно-литературном творчестве. Он
старается наверстать потерянное время на империалистском фронте и использовать
свою большую эрудицию для крупных произведений. Вот характеристика его работы в
последнем году его жизни: «Поразительно работоспособен, неутомим и очень
плодовит. День за днем проводит он с утра до позднего вечера в лаборатории за
работой: минимум времени отдает он лабораторной работе, больше всего — писанию...
Кабинетный человек, он, однако, не дышит книжной пылью, не утопает в серой
мертвечине застывших букв; в своих произведениях он не отличается
тяжеловесностью и неподвижностью, не подавляет Вас «тысячепудовыми»
аргументами. Он полон живых примеров из повседневной жизни; сама история оживает
под его пером».
Но его уж подстерегала смертельная болезнь
— рак желудка. Болезнь была, по-видимому, уже застарелая, но открылась она
сравнительно незадолго до его смерти. Последней работой, над которой он много
трудился, был перевод на еврейский язык его книги: «Борьба за мировое
господство и мировые пути». Это была не только переводная работа, он ее
основательно переделывал. Смерть помешала ему довести работу до конца,
ненаписанным осталось намеченное предисловие, и издание оказалось посмертным.
Последние его недели были очень тяжелыми и
мучительными, но пера он не выпускал из рук и на смертном одре. В тяжелых муках
своей болезни он живо следил за социалистическим движением в разных странах, за
последними новостями из мира борьбы и мысли. К двадцатилетию «романовского»
протеста, в ночь на 29-е февраля 1924 г., его сердце перестало биться.
2-го марта его хоронили виленские рабочие.
Похороны начались пением «Завещания»; завернутого красным знаменем опустили его
в могилу при звуках «клятвы».
* * *
Среди последних фраз, вырвавшихся у Павла
непосредственно перед смертью, была такая: «Зажгите свет! Я так люблю свет!».
Всю, свою жизнь в «жаргонном комитете», устной пропагандой, газетным пером,
брошюрами и книгами, стремился он внести социалистический свет в головы
рабочих. В предсмертной, фразе — основной тон его души, символ всей его
многострадальной жизни.
Г. Лурье.
/Каторга и Ссылка.
Историко-революционный вестник. Кн. 15. № 2. Москва. 1925. С. 235-244./
Г. Лурье.
А. М. ГИНЗБУРГ
30 ноября 1927 г. в Москве умер на 49 году
жизни «романовец» Арон Моисеевич Гинзбург.
Мне впервые пришлось сидеть с покойным в
тюрьме в конце 1900 г. В ночь на 30 августа этого года в Витебске произведена
была, по жандармской фразеологии, ликвидация местной организации Бунда; Среди
арестованных был также А. М. При обыске у него был найден огромный транспорт
литературы (около 4.000 экземпляров), который был получен за неделю до этого
Витебским комитетом для рассылки по ряду городов. Вместе с А. М. была
арестована также его сестра, Софья Моисеевна, которая пыталась, было,
выгородить брата, заявив, что- транспорт на хранение приняла она без ведома
брата. Жандармы не без основания не поверили ей: в их руках находилась
перехваченная в свое время переписка, свидетельствовавшая о том, что А. М. принимает
деятельное участие в с.-д. движении.
Состоя студентом Казанского университета,
он еще в начале 1900 г. принимал участие в Казанской с.-д. группе, работая под
конспиративной кличкой «Альфа».
Арест 1900 г. был уже вторым в жизни А. М.,
— ему предшествовал трагикомический арест 1897 г. Дело в том, что Гинзбург
вырос в богатой, крайне ортодоксальной семье. Когда он начал готовиться к
поступлению в университет, его отец не захотев, чтобы он «опозорил» свое
благородное происхождение таким поступком. Тогда Арон решил порвать с семьей.
Он взял единственное имевшееся у него «сокровище» — выигрышный билет,
подаренный ему в своё время дедушкой, и, покинув дом отца, уехал в Одессу
учиться и жить самостоятельно. Отцу тогда посоветовали заявить, что Арон украл
этот выигрышный билет у него. Его арестовали и продержали несколько дней, пока
дело не было улажено при помощи матери Арона, просвещенной по тому времени
женщины.
Второй арест — 1900 г. — был менее
благополучен: А. М. провел на этот раз в тюрьме около 9 месяцев, просидев почти
все время в маленькой полутемной секретке, где, вероятно, было положено начало
жестокой болезни, сведшей его, наконец, в могилу.
Освободившись под залог в конце мая 1901
г., он скоро возвращается в ряды борющейся социал-демократии. В 1902 г. он
является весьма активным членом Екатеринославского комитета партии. К этому
времени Екатеринославская организация была крайне обескровлена повторными
жандармскими «ликвидациями». После первомайской демонстрации 1902 г.
Екатеринославская организация осталась без всяких интеллигентных руководителей,
и А. М., связавшись со спасшимися от ликвидации остатками группы «Южный
Рабочий», спешив заполнить в Екатеринославе опустевшее место. К этому периоду
относится один эпизод в деятельности Гинзбурга, который характеризует его
принципиальную выдержанность и способность сопротивления временным настроениям
и уклонам.
Упомянутая демонстрация кончилась в
Екатеринославе сечением рабочих, произведенным по приказу губернатора Келлера.
Это вызвало взрыв возмущения в рабочей среде, и с.-д., забыв свое отношение к
террору, дали местным с.-р. некоторую сумму на организацию покушения на Келлера.
А. М. приехал в Екатеринослав уже после этой истории и вдруг узнает об этом
«уклоне» в социал-демократической среде. Не поддавшись настроениям, он со всей
силой убежденности объявляет борьбу этому поветрию и добивается от организации
резолюции против террористического увлечения.
В марте 1903 г. Гинзбурга арестовывают в
Витебске для отправки в Сибирь по делу 1900 г. Губернская власть освобождает
его под залог с тем, чтобы он за свой счет поехал в ссылку, но тут вмешивается
жандармерия. Она строчит донос о том, что, по имеющимся агентурным сведениям,
Гинзбург, во-первых, воспользуется свободой, чтобы снова разъезжать по разным
городам с революционными целями, «как он это делал в последние годы»; что он,
во-вторых, подговаривает рабочих устроить демонстрацию к моменту отправки в Сибирь
и что он, наконец, является автором прокламаций, которые были разбросаны в
витебском театре в марте 1903 г. во время представления пьесы Горького «На
дне». Донос жандармерии временно возымел действие: А. М. арестовали и при
обыске нашли у него нелегальную книжку.
Осенью, того же 1903 г. я снова встретился
с Гинзбургом — сначала в Якутской области на свободе, а затем на Романовке.
Романовская история достаточно известна нашим читателям; и и остановлюсь только
на роли Гинзбурга в ней. 18 февраля (ст. ст.) А. М. забаррикадировался вместе с
другими товарищами и не строил себе иллюзий насчет исхода: «Когда я вошел сюда,
— писал он впоследствии, — я подписал себе смертный приговор».
21 февраля Гинзбурга вызвала комиссия,
руководившая военными действиями на Романовке. Ему заявили, что в Якутск
продолжают приезжать ссыльные, которые хотят присоединиться к протесту, и что
поэтому у комиссии появилось предположение, нельзя ли устроить в Якутске еще
одну «крепость». Комиссия остановила свой выбор на Гинзбурге, предложив ему
отправиться в город, чтобы сорганизовать это дело, если оно окажется реальным.
Поручение было весьма-весьма ответственное: оно выявило то огромное доверие, с
которым относились к преданности и организационным способностям А. М.
Сам он, однако, всегда был весьма скромного
мнения о своих силах; он выразил удивление, что комиссия именно на нем
остановила свой выбор. Когда ему сказали, что это сделано вследствие
рекомендации товарища, знавшего его по работе на юге России, он после недолгого
раздумья согласился.
Оказавшись в городе, он скоро убедился, что
у комиссии было неверное представление: ссыльных приезжает не так много, и
являются они в город с голыми руками. К этому времени было уже запрещено
продавать оружие, оно все было взято на учет; а с голыми руками еще одной
Романовки не построишь. Тут и начинаются характерные для А. М. угрызения
совести. Ему порой кажется, что если б был кто-нибудь другой на его месте, то
он, может быть, все-таки сорганизовал порученное ему дело, хотя по всем
объективным условиям, которые были ясны ему и другим товарищам, тут ничего
нельзя было сделать.
А. М. направляет тогда свою инициативу по
другим направлениям. Вместе с нашим «резервистом» Ильей Леонтьевичем Виленкиным
он издает два воззвания — к солдатам и к якутскому обществу. У него возникает
план — заготовить бомбу, чтобы бросить ее в вице-губернатора Чаплина, Когда тот
будет руководить нападением на Романовку. Он отыскал народовольца-слесаря,
который принимается за изготовление бомбы, но безуспешно.
А. М. почувствовал себя здесь лишним; когда
1 марта товарищи с Романовки, совершившие накануне вылазку, собирались туда вернуться,
А. М. им заявил:
— Я иду вместе с вами, здесь мне делать
нечего.
Оказавшись снова в нашей среде, он сразу
почувствовал себя легко и спокойно: «здесь, — пишет, он, — все так просто,
ясно».
А потом пошли — обстрел, тюрьма, каторга.
А. М. был из тех, кто ухитрялся использовать тюремное житье для полезной
работы. В дикой обстановке, в камере, где бок о бок ютилось человек 30, где
плюнуть некуда было от тесноты, под вечный шум Гинзбург переводил с немецкого
языка на русский большую работу Эритье о французской революции 1848 года,
которую он вторично издал незадолго до своей смерти.
Осенью 1905 г. революция освободила нас из
каторжной тюрьмы, а 6 декабря того же года, когда в Витебске ожидалось черносотенное
выступление, я встретил А. М. на штабной квартире самообороны в качестве одного
из с.-д. руководителей.
В последующее время Гинзбург не порывает
связи с революционным движением. Только в последние годы тяжелый недуг
подрывает его силу и энергию. Когда я после долгой разлуки снова встретился с
ним лет 5 тому назад, я с трудом узнал в нем того бодрого, жизнерадостного
товарища, с которым мне приходилось разделять и первую тюрьму, и Романовку, и
каторгу. Но основные черты честного революционера, отзывчивого товарища,
защитника справедливости, не терпящего тени неправды, — эти черты он сохранил
до последней минуты своей жизни.
И хотелось бы надолго запечатлеть его
светлый образ, ярко выразившийся в его письме, которое он написал своей сестре
Марии Моисеевне 10 марта 1904 года, через три дня после того, как мы оказались
в тюрьме по сдаче Романовки, в ожидании военного суда с его вероятными
результатами. Вот содержание этого письма:
«Дорогая Муся!
Я тебе до сих пор не писал, но теперь мое
положение начинает несколько определяться, и я не хочу, чтобы ты (и вообще
близкие мне люди) заблуждались насчет того, что мне предстоит. Когда я решил
принять участие в протесте, я подписал себе смертный приговор, потому что мы
были уверены, что большая часть из нас не останется в живых. Теперь мы (за
исключением Юрия Матлахова, убитого 4 марта, и троих легко раненых, находящихся
в больнице) — в Якутском тюремном замке и ждем суда (на предварительном
следствии мы отказались от дачи всяких показаний). Суд, вероятно, будет
военный. Каков бы ни был приговор суда, он для меня не может быть сюрпризом. Я
бодр и спокоен, потому что я глубоко убежден, что поступил так, как того
требовал мой долг — честь революционера. Арон».
/Каторга и Ссылка.
Историко-революционный вестник. Кн. 40. № 3. Москва. 1928. С. 154-157./
Г. Лурье
ОТКЛИКИ
«РОМАНОВКИ» В КОЛЫМСКЕ
Один современник восстания декабристов
рассказывает в своих мемуарах, что московские власти, получив сведения о смерти
Александра I и не желая, чтобы это стало слишком рано известно населению,
отдали распоряжение не пропускать несколько дней никакой почты в Москву с юга.
В начале XX века трудно было что-нибудь подобное проделать не только в Москве,
но даже в Якутске. Однако, начальство на выдумки было хитро: когда в Якутске
началась Романовская история, власти поторопились принять меры, чтобы
отгородить «романовцев» китайской стеной от внешнего мира. 28 февраля в 7 ч. 13
м. утра из Иркутска была отправлена на имя министра Плеве следующая телеграмма
Кутайсова:
«Забаррикадировавшиеся в Якутске
поднадзорные, судя по прежним примерам и по издаваемым ими прокламациям,
постараются всеми способами, чтобы это приняло как можно большую огласку и
чтобы их пример вызвал подражание и в других местах, где только есть
поднадзорные. Поэтому признаю крайне необходимым подвергнуть их переписку
просмотру, для чего полезнее всего установить здесь известную цензуру над
письмами, отправленными из Якутска на имя других поднадзорных, и вообще
подозрительными, идущими оттуда через Иркутскую почтовую контору. Желательно
получить соответствующее разрешение телеграфом, чтобы можно было
заблаговременно принять надлежащие меры до прихода сюда первой якутской почты,
иначе можно ожидать возникновения подобных беспорядков и в других местах».
29 февраля Плеве ответил Кутайсову
телеграфно: «По телеграмме 28 февраля распоряжение сделано [* Дело деп. полиции 1904
г., № 193, ч. 1, лит. А, стр. 7-8.]».
Распоряжение Плеве было в точности
исполнено. 18 марта 1904 г. начальник иркутского губернского жандармского
управления сообщает директору департамента полиции, что иркутский военный
генерал-губернатор поручил ему просматривать «всю корреспонденцию»,
направляющуюся из Якутска, и что «громадное большинство писем как от
политических ссыльных, так и от частных лиц наполнено сведениями, о последних
событиях в Якутске» [*
Дело деп. полиции 1904 г., № 1225. «О беспорядках, произведенных политическими
ссыльными в Сибири».].
Одновременно было отдано распоряжение
просматривать всю почту, получавшуюся на имя политических ссыльных в сибирских
«колониях». Это распоряжение было официально объявлено политическим ссыльным. На
этой почве в Средне-Колымске произошло в марте 1905 г. вооруженное выступление
политических ссыльных.
В Колымске к тому времени было свыше
десятка ссыльных: были здесь кое-кто из стариков, появилась и молодежь,
преимущественно социал-демократическая. Когда в Колымск проникли первые
сведения о романовской истории, они (поставили местных ссыльных в затруднительное
положение: они не знали, какими способами на нее реагировать при своеобразной
колымской обстановке. Вот что рассказывал об этом моменте один из тогдашних
колымчан М. Б. Вольфсон в своих воспоминаниях на пленуме якутского землячества:
«Узнали мы о деле «романовцев» очень поздно
и очень смутно. Узнали, что они. что-то затеяли, но оказать какое-либо влияние
на исход этого дела мы не могли уже, так как знали, что прошло уже два или
больше месяцев, потому что почта получалась раз в 2 или 3 месяца. Мы имели
чрезвычайно смутное представление о том, что делается в Якутске, и мы понимали,
что там все уже кончилось, но страшно хотелось что-нибудь сделать. У нас
оказались две партии: одна за «романовцев», которая считала их действия
целесообразными и политически необходимыми, а другая партия — не то, чтоб
примыкала, но скорее по солидарности с с.-р. группой в Якутске, считала, даже
не знала, что считать...
Но замечательно, что ни сторонники протеста,
ни антипротеста в Колымске не знали, что делать, как это протестовать. Что
делать? Захватить разве дежурку с одним казаком и старым ружьишком? Надо
сказать, что колымские казаки, как и верхоянские, это — пигмеи, потомки
завоевателей Сибири, но они были чрезвычайно мало похожи на завоевателей;
некоторые совершенно не умели говорить по-русски, давно разучились; смешно, что
они носили русские названия, как Солдатов, Иванов, Артамонов. Они были невероятно
трусливым народом, для них бой не был уж потехой... И с ними воевать — в этом
было очень мало революционности. Обезоружить колымского казака ничего не
стоило. Не надо было даже говорить «Руки вверх», достаточно было сказать «Отдавай
ружье», и он моментально отдал бы. И вот получилось такое положение, что мы ничего
не могли сделать. Мы написали протест, его подписали, грозили, но ничего
особенного не вышло».
Так кончился первый отклик колымчан в 1904
году на Романовскую трагедию. Но вот наступил 1905 г. До колымчан доходили,
вероятно, смутные отзвуки разгулявшейся бури, и им снова «не сиделось»: тянуло
к выступлению, к оружию, и получилась своеобразная, чисто-колымская
манифестация. 1 апреля 1905 г. министр юстиции получил следующее телеграфное
донесение из Якутска о событиях в Средне-Колымске [* Дело 1 департамента Министерства Юстиции 1905 г., № 1724.
«О вооруженном сопротивлении политическими ссыльными в г. Средне-Колымске
Бойковым, Бассом, Верхотуровым и др.».]:
«8 марта в присутствие полицейского
управления явился за получением корреспонденции политический ссыльный Бойков,
следом за ним в Присутствие ворвались вооруженные ружьем и топором политические
Басс и Верхотуров, заявили: «мы предъявляем письменный протест и требуем, чтобы
вся корреспонденция была нам выдана без просмотра, а иначе мы оказываем вооруженное
сопротивление». Вбежавший казак схватил Верхотурова, а исправник, увидав
поднятый Бассом топор, а Бойковым направленный на него револьвер, схватил их за
руки и отобрал от них заявление следующего содержания: «Колымскому окружному
исправнику. Вооруженные, мы протестуем против просмотра корреспонденции,
являющегося одним из частных проявлений репрессий последнего времени по отношению
к политическим ссыльным. Наш протест есть продолжение борьбы, начатой якутскими
товарищами в феврале-марте прошлого года. Басс, Бойков, Верхотуров,
Дзержановский, Сидорович». Басс был схвачен сзади, а исправник, освободившись
от Бойкова, выбежал на улицу. Одновременно в канцелярию вбежали с ружьями
политические Сидорович и Дзержановский, по были задержаны казаками, после чего
все перечисленные лица были обезоружены и арестованы».
По крайней мере, двое из перечисленных в
этом донесении лиц уже раньше отличались «непокорным нравом» в ссылке и попали
в Колымск для исправления»: Мендель Басс и Казимир Сидорович были в числе 20
верхоянцев, подписавших 23 марта 1904 г. заявление якутскому губернатору, что
они вполне солидарны с якутскими товарищами и готовы «всегда дать должный отпор
на всякое насилие». М. Басс, впрочем, и в Верхоянск был переведен из Усть-Кута
за нарушение циркуляра Кутайсова, встретившего встречу партий ссыльных по пути
их следования.
Обвинительный акт по делу «о вооруженном
сопротивлении политических ссыльных в г. Ср.-Колымск Бойкова, Басса,
Верхотурова и др.» рисует несколько подробнее это выступление:
«8 марта 1905 года около 11 часов утра в
присутствие колымского окружного полицейского управления, в то время, когда там
находился пришедший только что из почтового отделения с полученной в тот день
корреспонденцией из г. Якутска колымский окружной исправник Николаев, зашел
состоящий под гласным полицейским надзором политический ссыльный Михаил Бойков
и, обратившись к исправнику, просил выдать ему по доверенности за
метеорологические наблюдения деньга. Исправник исполнить просьбу согласился, но
попросил его подождать, пока не управится с делами.
В этот момент в полицейское управление
ворвались вооруженные политические ссыльные Пантелеймон Верхотуров, Мендель
Басс, Владислав Дзержановский и Казимир Сидорович, трое из них — Верхотуров, Сидорович
и Дзержановский — ружьями, одно из которых у Дзержановского было с навинченным
штыком, а Басс — топориком, и пытались проникнуть в присутственную комнату, но
Дзержановский и Сидорович были задержаны в канцелярии находившимися в ней
казаками Михаилом Котельниковым, Иннокентием Поповым и Константином Дауровым, а
Верхотуров и Басс успели пробежать в присутствие, где с криками протеста, к
которым присоединился также и Бойков, у которого в руках оказался револьвер,
потребовали от исправника выдачи им без просмотра их корреспонденции, угрожая в
противном случае вооруженным сопротивлением, при чем Басс поднял вверх топор, а
Бойков навел на исправника дуло револьвера.
Вбежавший в этот момент в присутствие
управляющий Колымской казачьей командой Василий Березкин бросился на
Верхотурова, схватив его за ружье, а исправник одновременно успел схватить за
руки Бойкова и Басса, стараясь удержать их руки с оружием на высоте, с которой
они не могли бы причинить ему вреда. Березкин, между тем, продолжая держать за
ружье Верхотурова и видя происходившую между исправником и Бойковым и Бассом
борьбу, во время которой Басс старался нанести удар топором, а Бойков напрягал
усилия вырвать свою руку с револьвером, рванулся на помощь к исправнику, но
Верхотуров тянул его в обратную сторону.
Так продолжалась борьба около 10 секунд,
пока, наконец, исправнику не удалось освободиться от Басса и Бойкова, и он, со
словами: «господа, успокойтесь, я сейчас выдам письма», убежал в соседнее с
присутственной комнатой занимаемое им помещение.
После
этого Бойков, Басс и Верхотуров обратились с тем же требованием о выдаче им
писем без предварительного просмотра также к Березкину и хотели взять лежавшие
на столе газеты, но Березкин их до этого не допустил и вскоре, получив через
Земского заседателя распоряжение исправника об арестовании названных
политических ссыльных, предложил им отправиться в караульный дом. Подчиниться,
однако, этому требованию они не пожелали, заявив, что не пойдут до тех пор,
пока не будут им выданы письма, и согласились идти в караульный дом лишь тогда,
когда им было обещано, что письма им будут выданы, после чего были обезоружены
и все вместе с ранее задержанными и обезоруженными Дзержановским и Сидоровичем
были уведены в караульный дом.
Вскоре после описанного Березкин доставил
исправнику письменное заявление, подписанное вышеназванными политическими
ссыльными Бассом, Бойковым, Верхотуровым, Дзержановским и Сидоровичем,
следующего содержания: «Колымскому окружному исправнику. Вооруженные, мы
протестуем против просмотра корреспонденции, являющегося одним из частных
проявлений репрессалий последнего времени по отношению к политическим ссыльным.
Наш протест есть продолжение борьбы, начатой якутскими товарищами в феврале-марте
прошлого года».
Осмотром отнятого от Бойкова, Сидоровича,
Верхотурова и Дзержановского огнестрельного оружия установлено, что как ружья,
так и револьвер были заряжены: ружья — дробью, а револьвер — пулями.
К сожалению, эти официальные документы не
были дополнены ни тогда, ни, насколько нам известно, позже сообщениями самих
участников этого выступления. Они и на предварительном следствии и на суде
отказались от всяких показаний и от всякого участия в самом судебном процессе.
Только некоторые свидетельские показания на суде дополнили немного картину. Свидетель
Попов указал, что был момент, когда в канцелярии не оказалось ни одного
полицейского чина: «все они разбежались». По ряду показаний других свидетелей,
арестованные ссыльные шли к арестному дому с революционными песнями, с криками
«Долой самодержавие! [*
«По заветам Ильича», 1924 г., № 5-6. Единственное упоминание, насколько нам
известно, в литературе о колымском выступлении.]».
По-видимому, в марте 1905 г., как и годом
раньше, ссыльные, очутившись перед возможностью только «захватить дежурку с
одним казаком и старым ружьишком», сочли себя вынужденными ограничиться
вооружённой манифестацией.
7 декабря 1905 г. все пятеро ссыльных
предстали перед якутским окружным судом по обвинению в вооруженном
сопротивлении. Председателем суда был «старый знакомый» Будзилевич.
Однако, теперь уже были не те времена.
«Романовцы» уже были к этому моменту амнистированы, в самом Якутске происходили
митинги и демонстрации. Власть растерялась. Прокурор, требуя наказания
обвиняемых, считал тем не менее нужным указать «на обстоятельства, понудившие
подсудимых к совершению преступления». Суд происходил при открытых дверях,
судьи не посмели приговорить обвиняемых к наказанию, и переполнившая зал суда
публика громом аплодисментов встретила оправдание обвиняемых. Прокурор не
дерзнул опротестовать оправдательный приговор.
А в Петербурге тем временем произошли
перемены: «либеральный» Манухин уступил, место ставленнику реакции, министру
юстиции Акимову. Последний поторопился, в личных «доверительных» письмах обратить
внимание старшего председателя иркутской судебной палаты и прокурора этой
палаты на «незаконный» приговор и слабодушное поведение прокуратуры и просил их
сделать путем личных объяснений соответствующее внушение провинившимся чиновникам,
в видах устранения «на будущее время подобных нежелательных явлений».
/Каторга и Ссылка.
Историко-революционный вестник. Кн. 53. № 4. Москва. 1929. С. 134-138./















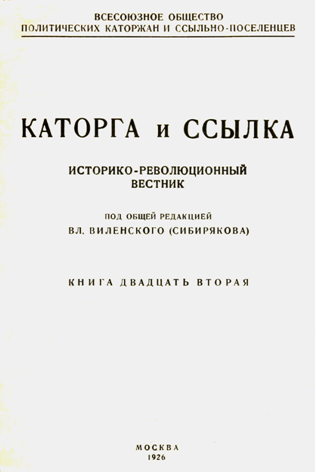













Brak komentarzy:
Prześlij komentarz